Рыцари и мученики: дневник узника немецкого концлагеря Владимира Бочкарёва
Источник: Бочкарёв В.В. Рыцари и мученики (повесть) // Колымские просторы. Магадан, 2015. №21. С.24-74.
Примечание: Большое спасибо Цыбулькину Петру Ивановичу за предоставление опубликованного материала для установки на историко-краеведческом портале Ургаза.ру.

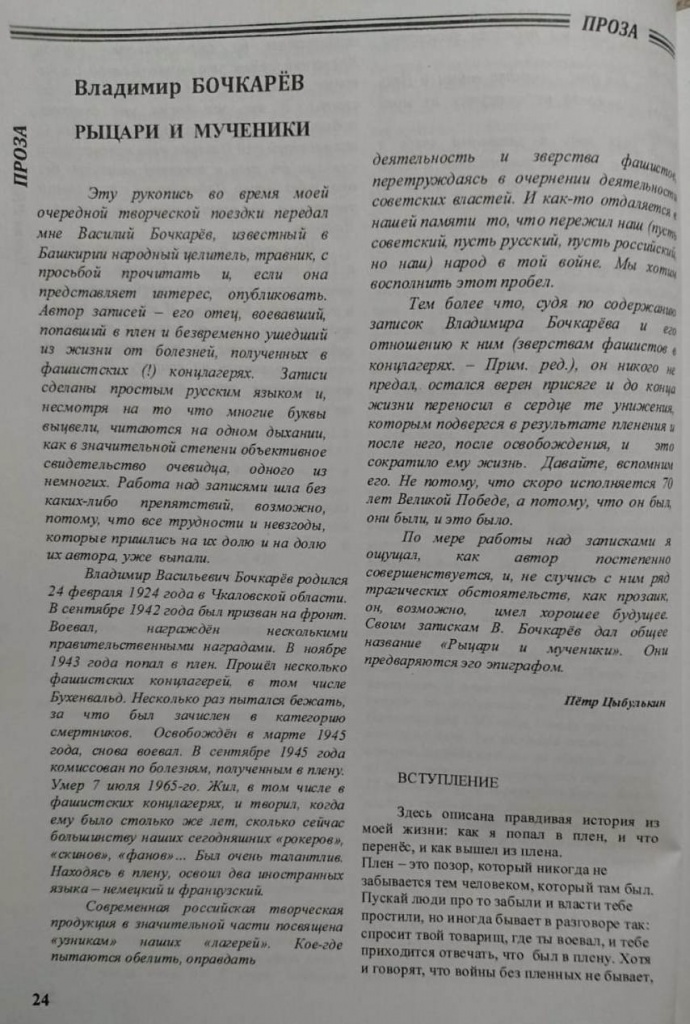
Эту рукопись во время моей очередной творческой поездки передал мне Василий Бочкарёв, известный в Башкирии народный целитель, травник, с просьбой прочитать и если она представляет интерес, опубликовать. Автор записей – его отец, воевавший, попавший в плен и безвременно ушедший из жизни от болезней, полученных в фашистских (!) концлагерях. Записи сделаны простым русским языком и, несмотря на то, что многие буквы выцвели, читаются на одном дыхании, как в значительной степени объективное свидетельство очевидца, одного из немногих. Работа над записями шла без каких-либо препятствий, возможно потому, что все трудности и невзгоды, которые пришлись на их долю и на долю их автора, уже выпали.

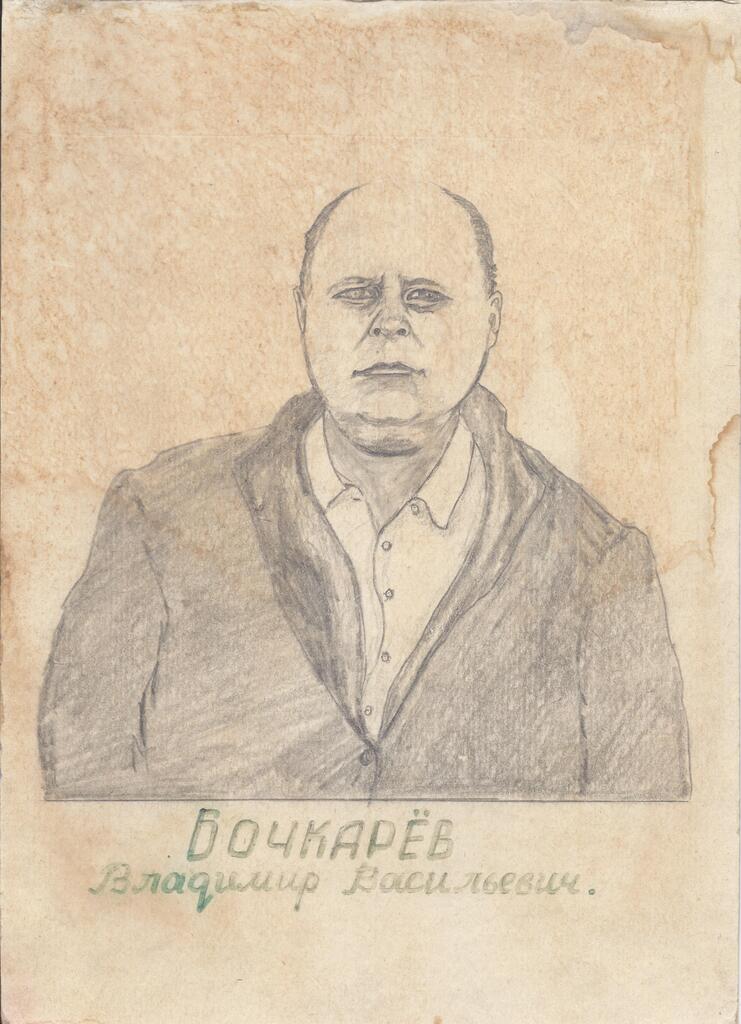
Владимир Васильевич Бочкарёв родился 24 февраля 1924 года в Чкаловской области. В сентябре 1942 года был призван на фронт. Воевал, награждён несколькими правительственными наградами. В ноябре 1943 года попал в плен. Прошёл несколько фашистких концлагерей, в том числе «Бухенвальд». Несколько раз пытался бежать, за что был зачислен в категорию смертников. Освобождён в марте 1945 года, снова воевал. В сентябре 1945 года комиссован по болезням, полученным в плену. Проживал на Центральной усадьбе зерносовхоза Зилаирский Баймакского района Республики Башкортостан. Умер 7 июля 1965-го. Похоронен в селе Ургаза (бывш. Центральная усадьба зерносовхоза Зилаирский). Жил, в том числе в фашистких концлагерях, и творил когда ему было столько же лет, сколько сейчас большинству наших сегодняшних «рокеров», «скинов», «фанов»… Был очень талантлив. Находясь в плену, освоил два иностранных языка – немецкий и французский.
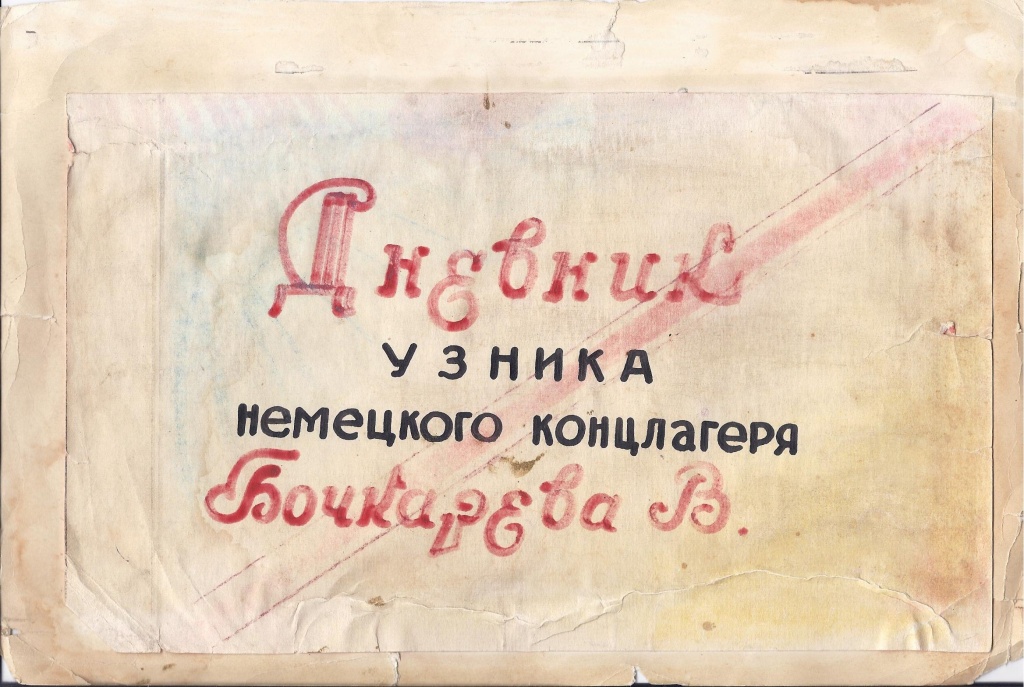
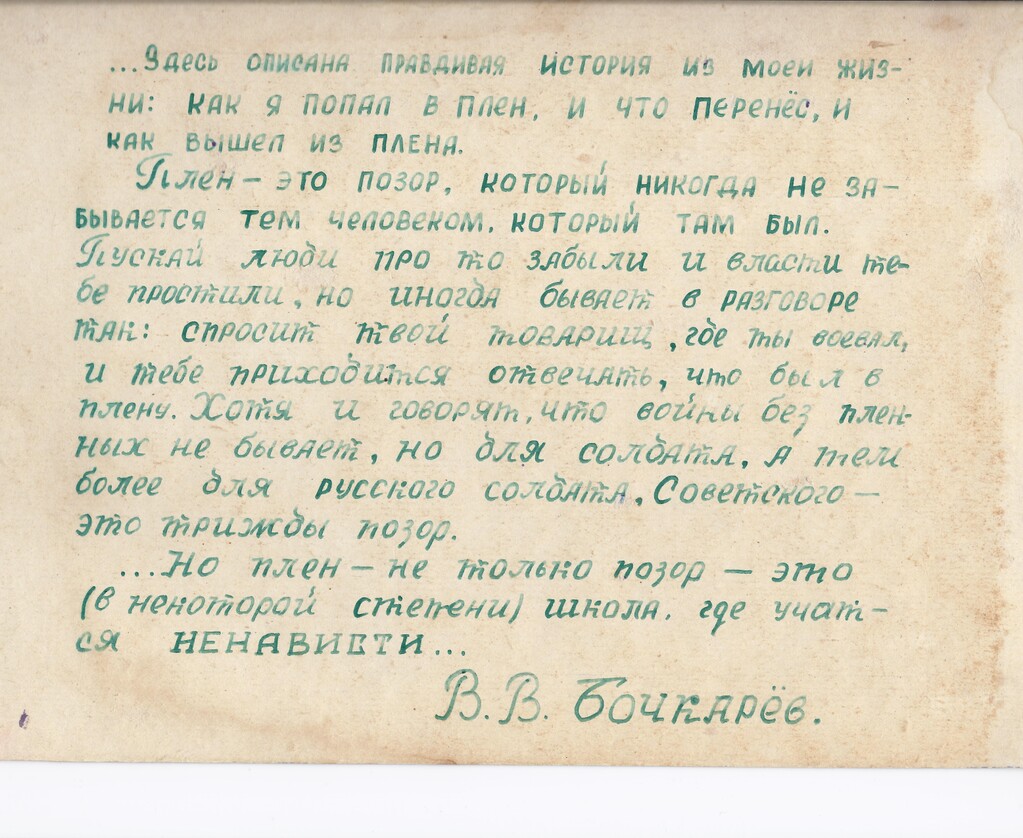
Современная российская творческая продукция в значительной части посвящена «узникам» наших «лагерей». Кое-где пытаются обелить, оправдать деятельность и зверства фашистов, перетруждаясь в очернении деятельности советских властей. И как-то отдаляется в нашей памяти то, что пережил наш (пусть советский, пусть русский, пусть российский, но наш) народ в той войне. Мы хотим восполнить этот пробел.
Тем более, что, судя по содержанию записок Владимира Бочкарёва и его отношению к ним, он никого не предал, остался верен присяге и до конца жизни переносил в сердце те унижения, которым подвергся в результате пленения и после него, после освобождения, и это сократило ему жизнь. Давайте, вспомним его. Не потому, что скоро исполняется 70 лет Великой Победе, а потому, что он был, они были, и это было.
По мере работы над записками я ощущал, как автор постепенно совершенствуется, и, не случись с ним ряд трагических обстоятельств, как прозаик он, возможно, имел хорошее будущее. Своим запискам В.Бочкарёв дал общее название «Рыцари и мученики». Они предваряются его эпиграфом.
Пётр Ив.Цыбулькин
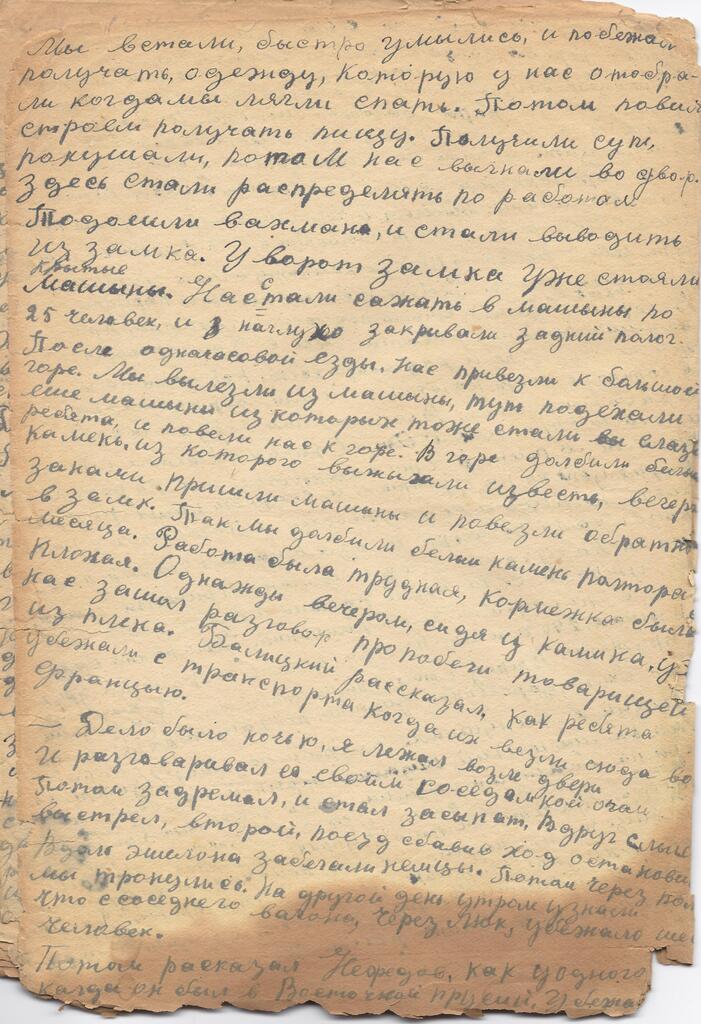
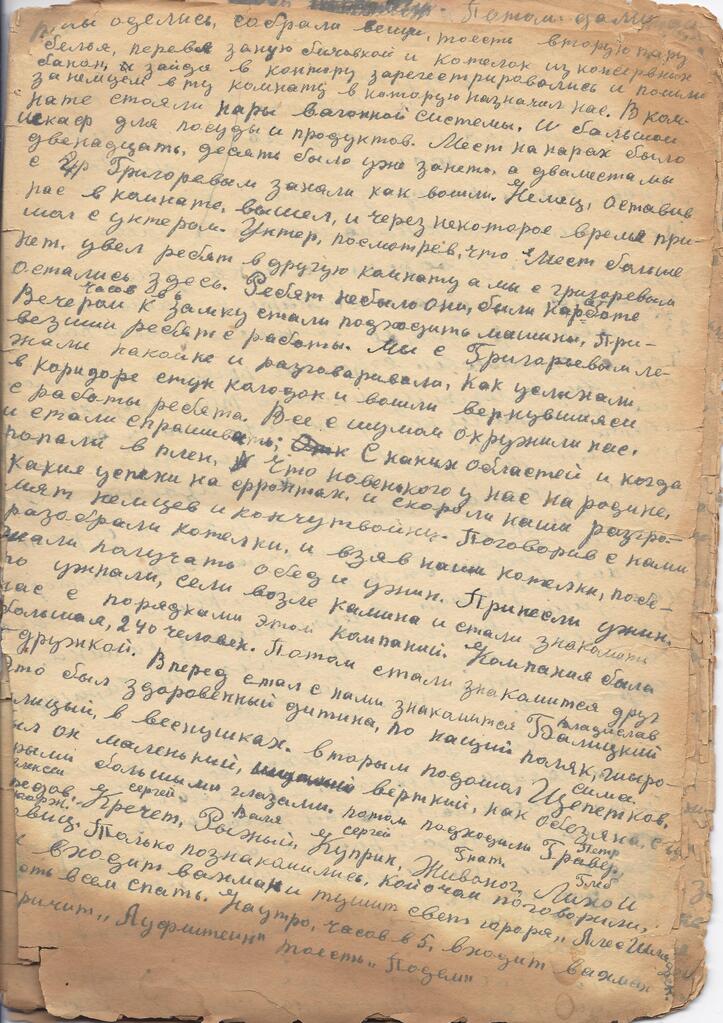
«Здесь описана правдивая история из моей жизни: как я попал в плен и что перенёс, и как вышел из плена.
Плен – это позор, который никогда не забывается тем человеком, который там был. Пускай люди про то забыли, и власти тебе простили, но иногда бывает в разговоре так: спросит твой товарищ, где ты воевал, и тебе приходится отвечать, что был в плену. Хотя и говорят, что войны без пленных не бывает, но для солдата, а тем более для русского солдата, советского – это трижды позор.
…Но плен – это не только позор – это (в некоторой степени) школа, где учатся ненависти…
В этой рукописи описывается не об одном человеке, вернее, герое этой книги, а о целой плеяде людей, с которыми ему пришлось встречаться и некоторое время находиться вместе в лагере или быть в бегах. Конечно, не каждая фамилия упоминается, приходится человека описывать под другой фамилией, давать другое имя…».
ПО ДОРОГЕ В АД
На землю опускались сумерки. Из-за плотной завесы туч не было видно зашедшего за горизонт солнца. Только в одном месте, где в небе имелся небольшой просвет, на мгновение мелькнул, озарив тучи, луч. Сумерки сглаживали окраску местности. Зелёный лес вдалеке постепенно чернел, вырисовываясь своим неровным зубцом на сумрачном небе. Природа затихала. Лишь дождик шумел по осенней поблеклой траве, да кое-где раздавались голоса солдат.
Посреди расступившегося леса, давшего место огородам и нивам, стояло село, почти дотла сожжённое немцами при отступлении. С его восточной стороны каменной громадой высились развалины церкви, которую фашисты подорвали. Рядом с развалинами стояла искрошенная снарядами колокольня.
С северо-запада, косо разрезая село на две части, протекала речка. В её крутых берегах были вырыты землянки, накрытые тонким слоем жердей. Немного в стороне от берега находился блиндаж, в котором размещался штаб расквартированного в селе батальона. Около входа в блиндаж маячил часовой с автоматом и в плащ-палатке.
По рядам землянок пробежал солдат, заглядывая и крича в каждую:
- Идите получать ужин!
После его ухода в землянках поднимались с нар солдаты, находили во тьме котелки и, звякая ими, выходили строиться.
Дежурный по кухне подбежал к землянке, в которой находилась караулка, и нырнул внутрь. В землянке, недалеко от входа, стоял шаткий стол, на столе – коптилка, сделанная из гильзы крупнокалиберного патрона. За столом сидел Бочкарёв и что-то писал на листке блокнота. Он был широкоплеч и широкогруд. Грудь его была перетянута лямкой от противогаза, которая врезалась в гимнастёрку. Он прикрыл ладонью заколебавшийся огонёк коптилки и обернулся к вошедшему:
- Ты чего, Прыгунов? – Говорил он звучным, приятным баритоном.
- Пришёл сказать, что раздают ужин, - доложил Прыгунов, маленький вёрткий солдатик с живыми бойкими глазами и большим ртом.
Бочкарёв повернулся и кинул во тьму землянки:
- Сидоров! Возьми термос и сходи за ужином.
На нарах зашевелились. В свете коптилки появился пожилой, высокий солдат, молча, нагнулся и достал из-под стола термос, внутри которого что-то булькало. Он открыл термос и заглянул в него.
- Товарищ старший сержант! Здесь есть суп, - сказал он Бочкарёву.
Тот поднял голову от листка, потёр покрасневшие глаза и сказал:
- Это осталась, наверное, порция Симакова, слей её в котелок.
В это время кто-то вошёл в землянку. Язычок коптилки, мигнув, погас.
- Потише бы надо врываться, - недовольно проворчал Бочкарёв.
В темноте кто-то зашуршал коробком спичек, чиркнул спичкой и зажёг коптилку. Её тусклый огонь осветил фигуру взводного - младшего лейтенанта Касторника с повязкой дежурного по части на рукаве. Бочкарёв вытянулся, подал команду «Смирно», взял по козырёк и доложил по форме, что за время отсутствия младшего лейтенанта никаких происшествий не произошло, а взвод занимается подготовкой к ужину.
- Быстрее идите, получайте, выступать скоро, - Касторник поднёс руку к коптилке и поглядел на часы.
Бочкарёв тоже вытащил из кармана брюк свои часы и посмотрел на них.
- Ровно в 22.00 сними все посты и дежурных по кухне, - сказал лейтенант, - у тебя сколько там? – спросил он Бочкарёва.
- Восемь тридцать пять.
- Отстаёшь от жизни! – Весело проговорил лейтенант. – Не восемь тридцать пять, а без двадцати пяти девять! – И направился к выходу.
Бочкарёв спрятал свои часы и вышел за ним. Когда Касторник чуть отошёл от землянки, он тихо, вполголоса окликнул его:
- Женя! Подожди минутку! – Оставаясь наедине, они называли друг друга на ты и по имени.
Лейтенант остановился и повернулся к подходившему Бочкарёву.
- Значит, правду говорят? – Спросил тот.
- Да, Володя, правду, - ответил Касторник.
- Значит, на фронт?
- Да, на фронт. Но не в оборону, а, по всей видимости, будем наступать.
- А ты откуда знаешь?
- Я не знаю, а только предчувствую. Да ещё ездил в штаб полка, там были кое-какие разговоры. А недавно связной был из штаба, приказ привёз. И он кое-что сказал. Ну, пока, встретимся на марше… Да, скажи Алексеенко, чтобы он ничего не забыл, - наказал он своему связному, который отличался большой рассеянностью и вечно что-нибудь забывал или терял.
Бочкарёв вернулся в землянку. Возле стола сидел Савчук и читал какую-то книгу, поднося её вплотную к коптилке. Бочкарёв подошёл к нему и заглянул через плечо. Книга была сильно обтрёпана, с измятыми углами. Он нагнулся и прочитал несколько строк:
«…Рано утром, часов в пять-шесть, кто-то твёрдо постучал Фёдору в дверь. Отворил – стоит незнакомый человек:
- Здравствуйте. Я – Чапаев!..»
Бочкарёв выпрямился, прошёл вглубь землянки, остановился и прислушался.
По крыше снова начал барабанить дождь. На нарах кто-то всхлипывал во сне, а в самом тёмном углу кто-то мигал огоньком цигарки и тихо что-то рассказывал. Бочкарёв улавливал только отдельные слова, так как спящий своими всхлипами и свистом заглушал басок говорившего:
- А рыбы там тьма… - всхлип, свист носом и опять тихий басовитый голос - …а как же, ловят. Из их консервы делают такие, что пальчики оближешь…
Бочкарёв подошёл к говорившим. На нарах лежал освещаемый неровным светом коптилки здоровенный малый, косая сажень в плечах. Бочкарёв узнал Маричева, которого солдаты прозвали Бывалым за то, что он, где бы и о чём ни говорили, обязательно встревал со своим мнением. К примеру:
- Ты откуда родом, с Аральского? Я там был. Ну и местность, брат, у вас паршивая. Зато море богато рыбой…
Или к разговору о книгах:
- Что, что? Кто пишет лучше? Шишков? Нашёл, что читать… - При этом не мог назвать ни одного произведения писателя.
Но фронтовой опыт Бочкарёва говорил, что с такими людьми, как Маричев, никогда не скучно. Он знать не знает, но если врёт, то так правдиво, что как-то невольно ему веришь. А если всё-таки обличил его во лжи, то тут же трижды откажется:
- Что ты, батенька, когда я тебе говорил?
- Да вот сейчас только!
- Нет, ты, батенька, что-то выдумываешь. Я говорил… - И начинал рассказывать в своё оправдание совсем другое.
Он мог говорить целыми часами, не замолкая, образно, красиво и интересно.
Бочкарёв присел на краешек нар:
- О чём рассказываешь, Маричев?
- О Дальнем Востоке, товарищ старший сержант, - приподнимаясь и садясь рядом, ответил Маричев.
- А ты разве там был?
- А как же! Я там кадровую служил, на Амуре.
В землянку кто-то быстро вошёл. Язычок коптилки опять мигнул и погас. В темноте кто-то громко спросил:
- Где старший сержант?
Бочкарёв встал и пошёл на голос.
- Что такое? – Спросил он.
- Принёс ужин, по дороге встретил младшего лейтенанта, он велел передать, чтобы снимали посты.
Савчук в это время зажёг свет. Бочкарёв увидел Сидорова, который снимал со спины термос, и сказал Савчуку:
- Иди Алексей, снимай ребят, а я пойду на кухню, рабочих приведу.
- Сами сейчас придут, - сказал Сидоров. - Они на кухне уже поели, а я на них тоже получил. Так что сегодня подзакусим.
Из темноты стали выходить солдаты и составлять котелки на стол. Бочкарёв сказал Савчуку:
- Ладно, я сам сниму посты. А ты поторопи здесь, чтобы побыстрее собирались.
Он подошёл к нарам, нашёл свою шинель, оделся и вышел из землянки.
Темнота позднего вечера сразу плотно обступила его. Он ненадолго остановился, дав глазам привыкнуть к темноте. Прямо перед ним тускло поблёскивала дегтярно чёрная вода реки, по поверхности которой шумел дождь. Слышались шаги и отдельные слова. Кто-то невдалеке громко спросил:
- Здесь что ли размещается третий взвод?
И голос из землянки:
- Нет, рядом.
Потом опять шаги и говор:
- Темень, чёрт подери, хоть глаз выколи. Ни хрена не видно.
Шаги опять затихли и снова:
- Здесь что ли третий взвод?
- Здесь, здесь. Заходи, Ляхов. Ты что, заблудился? – Кто-то бодро крикнул из землянки.
- Да, мать твою … такая темень…, - дальше Бочкарёв не расслышал, так как говоривший зашёл в землянку.
Глаза окончательно привыкли к темноте, и Бочкарёв стал с трудом разбираться в окружающем. Он медленно, скользя ногами по разжиженной дождём тропинке, выбрался по откосу наверх, остановился, прислушиваясь. Издалека долетели обрывки какого-то разговора, и он пошёл, ориентируясь на голоса. Потом услышал шаги, чьё-то ругательство и вопрос:
- Ты что?
- Да вот, что-то прилипло к ногам.
- Ночка темна, нету звёзд, под ноги всякая чертовщинка попадается…
Кто-то пропел, приближаясь к Бочкарёву.
Он по голосу узнал командира своей роты старшего лейтенанта Сердюка.
Тот подходил, не видя Бочкарёва, и Бочкарёв не увидел, а услышал шаги, которые всё отчётливее раздавались и уходили в сторону, мимо него. Бочкарёв пошёл в том же направлении, догадавшись, что там находится штаб. Он по-прежнему шёл как слепой, только слухом улавливая отдельные звуки. Вот невдалеке раздался зовущий крик:
- Товарищ лейтенант, лейтенант Петренко! Вернитесь, вас капитан зовёт!
И тот час же ответный крик:
- Да, да…Слышу. Иду.
Бочкарёв уверенно пошёл на голос и через минуту услышал окрик часового:
- Стой, кто идёт! Пароль!
Бочкарёв назвал пароль и, услышав отзыв, подошёл к часовому. Это был молодой паренёк из освобождённых районов Белоруссии, бывший партизан. Крепко сколоченный, но с большими по-девичьи красивыми глазами и маленьким ртом с постоянно сжатыми губами.
- Бульбенко, ты не видел нашего лейтенанта?
- Видал. Они только что прошли в штаб.
Бочкарёв стал спускаться вниз по ступенькам и уже думал войти в блиндаж, как дверь блиндажа отворилась и кто-то стал быстро подниматься по ступенькам наверх, чуть не налетев на Бочкарёва. И налетел бы, если б тот не посторонился. Но проход был узким и шедший навстречу задел Бочкарёва рукой.
- Кто это? – Бочкарёв узнал голос Касторника.
- Я, Бочкарёв, товарищ младший лейтенант.
- Старший сержант? Превосходно. Я только что хотел бежать к тебе.
Связных всех поразогнали, послать некого. Идём, капитан тебя ждёт.
Они вошли в блиндаж, и Бочкарёв невольно прикрыл рукой глаза, щурясь от яркого света трофейной карбидной лампы, но быстро убрал руку и строевым шагом подошёл к сидевшему за столом командиру батальона капитану Козину, который лейтенанту Петренко, низкорослому полному сероглазому парню, почти одних лет с Бочкарёвым, что-то говорил и показывал, водя карандашом по карте.
Бочкарёв щёлкнул каблуками, рывком взял под козырёк, доложился.
- Здравствуйте, товарищ старший сержант, - капитан отеческим взглядом оглядел Бочкарёва, который стоял перед ним краснощёкий, ладный, в туго перепоясанной шинели.
Сам капитан был бледен, худ, с выдающимися скулами, хрящеватым носом, близко посаженными карими глазами, усами, закрученными на манер чапаевских. При ходьбе он чуть припадал на правую ногу. Бочкарёв в его батальоне воевал уже два месяца и, попадая в различные переплёты, неизменно оставался в строю.
- Вы, Бочкарёв, дорогу знаете на Клюквино? – Спросил капитан.
- Знаю, товарищ капитан.
- Возьмите в хозвзводе коня и доставьте вот этот пакет в штаб полка, - капитан подал Бочкарёву запечатанный серый конверт.
Бочкарёв взял пакет и засунул его за пазуху, под шинель.
- Отдадите конверт начальнику штаба майору Лугову и возьмёте расписку.
Нас, возможно, здесь не застанете, тогда скачите на село Козельцы – мы будем там. Ну, удачи!
Бочкарёв отдал честь, сделал поворот кругом через левое плечо и вышел из блиндажа. Темнота ещё плотнее обступила его после яркого света. Он ощупью поднялся наверх и пошёл в свою землянку, чтобы забрать автомат и оставить противогаз. Кое-как добрался до землянки. В ней было шумно – солдаты собирались. Савчук уже в шинели и с вещмешком сидел и продолжал читать книгу. Он спросил вошедшего Бочкарёва:
- Ну, скоро там?
- Не знаю, - ответил Бочкарёв. – Алексей, возьми мой вещмешок и сдай противогаз: я, очевидно, с вами не пойду…
- Почему?
- Меня в штаб полка посылают. Принеси мой автомат, а я пока подрубаю.
- Где мой котелок?
Сидоров подошёл к столу и поставил плоский котелок Бочкарёва. Бочкарёв скинул противогаз, отдал Савчуку, вынул из-за голенища сапога ложку и стоя стал есть. Это была гречневая каша, и он с ней быстро расправился. Взял автомат, проверил его и вышел из землянки.
Вдоль берега реки он пошёл в сторону кухни, туда, где был расположен хозвзвод. В темноте он неожиданно наткнулся на молча стоявшего человека, который чуть не упал. Незнакомец выругался и спросил:
- Чего ты толкаешься? Не видишь разве, что человек стоит!
- А я кот что ли, чтобы видеть? - Ответил Бочкарёв. – А сам чего затаился?
- Да вот, старшину ожидаю. Зашёл к нему в землянку, а он мне сказал:
«Подожди, я сейчас выйду», да только час у него длинный – долго не выходит. А Вы кто будете?
- А ты разве не видишь, кто перед тобой стоит!
- Да мудрено, товарищ лейтенант, в темноте разглядеть… - Прозвучал робкий голос. Бочкарёв узнал Едалова, ездового из хозвзвода, худого, тщедушного солдатика с торопливой походкой и вечно красными глазами.
- Довольно трепаться, Едалов, ты что, не узнаёшь меня?
- Нет, не узнаю. Ты кто?
- Иди, зови старшину, - не отвечая ему, сказал Бочкарёв, - он мне срочно нужен.
Едалов подошёл к двери в землянку и постучался.
- Можно… Войдите… - Отозвалось сразу несколько голосов.
- Товарищ старшина, здесь срочно Вас требуют!
Дверь, скрипнув, отворилась, и из землянки быстро вышел старшина Сапунов, малый щеголеватого вида, в хромовых сапогах, в хорошо подогнанной шинели, подпоясанной широким офицерским ремнём. Он быстро, скороговоркой спросил:
- Кто вызывал?
- Я Вас вызывал, - отозвался Бочкарёв, - мне, товарищ старшина, комбат приказал взять у вас коня…
- Бочкарёв, это ты? – Узнал его по голосу Сапунов. – Заходи в землянку.
- Некогда, Николай Семёнович, дело спешное - быстро надо.
- Ну, хорошо … - Недовольно пробурчал Сапунов. - Едалов, иди, дай старшему сержанту своего воронка, а сам возьми в упряжь трофейного!
- Есть! – Весело отозвался Едалов, очевидно довольный тем, что трофейный конь достался ему.
Сапунов повернулся было идти в землянку, но остановился и окликнул уходящего Бочкарёва:
- Погоди-ка! Возьми вот письма, а то уже вторую неделю, как написал, а отправить не могу.
Бочкарёв в темноте нашёл его руку, взял письма и сунул их в карман шинели.
Едалов быстро шёл впереди, изредка предупреждая Бочкарёва.
- Осторожно, здесь канава! Старшина здесь звезданулся, - засмеялся Едалов, - из-за этой канавы он меня ругал.
- За что? – Переспросил Бочкарёв.
- Из-за канавы, - повторил словоохотливый Едалов, - мы вчарась с ним ходили в пульроту к старшине Ефимову. Они земляки, с одной деревни. Ефимов получил письма и Сапунов ходил к нему узнать, что пишут. Ну и меня позвал: «У тебя, - говорит, - Едалов, глаза, как у кошки». Осторожней, сержант, здесь проволока…
Бочкарёв поднял руку перед собой, нащупал телефонный кабель в матерчатой обмотке и поднырнул под него. Впереди всё также проворно чмокали по грязи сапоги Едалова, который рассказывал о том, как Сапунов, идя вслед за ним, сорвался в канаву, вымазал в грязи свою форсистую шинель, потерял кубанку, и как они вдвоём искали её там, где упал старшина, а нашли в канаве, в грязи.
Едалов от природы большой насмешник и Бочкарёв подумал, что он, скорее всего нарочно не предупредил старшину о канаве.
Наконец, они подошли к кухне, которая светилась красным огнём костра, горевшим под бревенчатым навесом - чтобы сверху его нельзя было увидеть.
- Ну вот, пришли. Теперь только наверх подняться и до нашего хозяйства рукой подать, - сказал Едалов и, миновав кухню, стал подниматься вверх по скользкой тропинке.
Бочкарёв тоже поднялся наверх. Сырой осенний ветер бросил ему в лицо запах прелых листьев. Из расположения хозвзвода до них донёсся спокойный басовитый голос рассказчика:
- Он вот таким был, как Паршин, бравый, красивый, только чуть-чуть раскосый. Но это ничего не значит. Глаза красивые нужны только девкам, а солдату нужны глаза соколиные, чтоб врага увидеть далеко и бить его метко прямо в его поганое сердце…
- Старший сержант, конь готов, - окликнул Бочкарёва Едалов, подводя к нему осёдланную лошадь.
Бочкарёв нащупал в темноте повод, закинул его коню на шею, нашёл рукой стремя, вдел в него ногу и рывком поднялся в седло. Стремена были опущены слишком низко, и он попросил Едалова чуть их приподнять. Когда Едалов исполнил его просьбу, повернул коня и выехал из леска, где располагался хозвзвод. Конь был бойкий, шустрый и лёгкий в ходу. Проехав немного, Бочкарёв остановился и попытался осмотреться. Тяжёлая мгла плотно окутала его. Тогда он призвал на помощь свою память:
- Так, прямо напротив леса находится село. Дорога на Клюквино проходит вправо. Ну, вороной, пошёл! – Бочкарёв слегка ударил коня по бокам каблуками сапог, повернул его направо и скоро выехал на дорогу, которую чуть не переехал, если бы не лес, стоящий по одной её стороне.
Он повёл коня рысью. Конь шлёпал копытами по размешанной на дороге грязи. Автомат сильно хлопал по спине, и Бочкарёв перевёл его на грудь. Лес по краям дороги шумел угрожающе и в то же время печально, будто пугая своими дикими обитателями и разными ночными неожиданностями и одновременно жалуясь, что немилосердная осень сняла с деревьев их красивые зелёные платья и оголила их.
Бочкарёв на ходу сунул руку за пазуху, проверяя, на месте ли пакет, и, нащупав его, успокоился. Ночь на него действовала гнетуще - тёмная и, кажется, липкая, вплотную подступавшая к глазам. Только слух воспринимал хаос звуков, рождённых лесным шумом. Ветер как бы играл сучьями и ветками, изредка с треском ломая их. Лес целиком находился во власти ветра: ветер дул – лес шумел, ветер стихал – и лес затихал. Только внизу, у самой земли, не было ветра и было тихо.
Оборвав свои наблюдения, Бочкарев стал прислушиваться. Впереди послышались голоса. Он чуть придержал коня, чтобы удостовериться, не почудилось ли ему, не принял ли он какой-нибудь лесной шум за разговор. Издалека до него донеслась чья-та оживлённая речь, будто один путник рассказывал другому что-то интересное.
Бочкарёв подстегнул коня и вскоре догнал подводу. Сидевший на ней рассказывал своему коню сказку:
- …а конь под ним – мохнатка - таких десять надо, как ты. А броня на нём булатная, златом-серебром разукрашенная. А сам такой раскрасавец, что ни словами рассказать, ни пером описать. Ну, приехал он к княжескому дворцу, с коня не слазит, шапочку беличью пред боярами не ломает, князю в ноги не кланяется: «Я приехал, князь, людей русских защищать от врагов лихих, от поганых татар…».
Бочкарёв перебил рассказчика:
- Эй, приятель, далеко путь держишь?
- На Клюквино, - быстро и охотно отозвался рассказчик.
- А далеко ли до него?
- Да нет, километра, этак, два будет, а может и с гаком.
- Ого! Если с гаком, то порядочно ещё, у русского гак большой.
- У тебя закурить есть? – Спросил ездовой.
- Не курящий, - отозвался Бочкарёв.
- Скучно, друг, без курева в дороге. Когда есть курево, и дорога кажется короче, а когда нет… - И возница ожесточённо и громко сплюнул.
Бочкарёв вспомнил, что старшина однажды дал ему махорки и папирос для лейтенанта Петренко, который до Касторника был у них командиром взвода, и в углах кармана шинели осталось. Он стал шарить и набрал на папироску.
- Братишка, нашёл немножко. На, закури.
Возница соскочил с подводы и быстро подошёл к нему. Бочкарёв в темноте разглядел смутный силуэт человека, высыпал махорку в подставленную ладонь и, подстегнув коня, поскакал. Вслед ему возница радостно кричал:
- Спасибо тебе за выручку!
Спустя несколько минут после того, как оставил за собой подводу, он выехал из леса. Сразу стало как-то светлее, и пропал шум. В лесу мрак был густой непроницаемый, а здесь его не было. Чуть впереди был слышен какой-то равномерный гул. Конь почуял жильё, сам прибавил шаг, и вскоре Бочкарёва окликнул патруль:
- Стой, кто идет!
- С пакетом, в штаб!
- Пароль!
Бочкарёв подъехал поближе к патрулю и вполголоса сказал:
- Патрон. Где штаб находится?
- Езжай прямо, там увидишь!
- Я вас не вижу, а как я штаб смогу увидеть?
- Ну, не увидишь, так услышишь, - ответил патрульный.
Бочкарёв тронул коня и вскоре услышал возле одного дома приглушённый рокот мотора машины. Он поехал на шум и через минуту оказался около большого грузовика. Вокруг машины ходили люди и что-то загружали в кузов.
- Ребята, вы не скажете, где тут штаб находится?
К нему подошёл один из грузчиков и объяснил:
- Езжай по улице, направо будет школа, за ней большой дом с палисадником, там и штаб. - Потом повернулся к машине и спросил – Ну что, всё погрузили?
- Нет ещё, там ящики остались, - отозвался кто-то от дома.
Бочкарёв поехал вдоль по улице, в темноте разглядел длинное высокое здание школы, миновал его и подъехал к штабу. У крыльца соскочил с коня и чуть не сел на землю – с непривычки ездить в седле ноги отекли и сами собой подогнулись.
Держась за седло, он размялся, отвердел на ногах, подвёл коня к ограде палисадника и привязал. Оправил на себе шинель, ощупал её в темноте, перекинул автомат за спину и только тогда по крыльцу поднялся в штаб. У двери его задержал часовой:
- Стой! Пропуск!
Бочкарёв назвал пропуск и спросил:
- Начальник штаба где находится?
- В штабе, в своём кабинете, наверно, - ответил часовой.
Бочкарёв вошёл в сени, ведя рукой по стене нашёл дверь, открыл её и сразу ослеп от яркого света лампы-молнии, висевшей под потолком. Когда глаза привыкли к свету, он разглядел комнату. Она была длинная, узкая, с одним завешенным красным стёганым одеялом окном. У окна стоял стол с подстольным шкафчиком, на табуретке, привалившись спиной к столу, сидел пожилой старшина осетин Гараев, адъютант командира полка. От двери к противоположной стене была протянута цветастая занавеска, скрывавшая русскую печь.
- Вам кого надо? - Спросил старшина Бочкарёва, поднимаясь с табурета.
- Начальника штаба, товарищ старшина! – Громко отчеканил Бочкарёв.
- Сейчас, пойду, доложу, - сказал Гараев, направился к двери, которая вела в другую комнату. Через минуту вышел и сказал:
- Идёт совещание, можешь подождать, а если что-то срочное – передать через меня.
Бочкарёв протянул ему пакет. Гараев взял его, снова зашёл в соседнюю комнату и вышел оттуда уже с распиской Лугова. Бочкарёв взял расписку, молча вынул из кармана и передал Гараеву сапуновские письма – тот всё понял и принял их без слов - прищёлкнул каблуками и, повернувшись кругом через левое плечо, вышел в сени.
- Сколько сейчас времени? - спросил часовой.
- Присвети, сейчас узнаем, - сказал Бочкарёв, доставая из кармана часы.
Часовой чиркнул спичкой, и Бочкарёв разглядел в нём пожилого ефрейтора, с которым он один раз поругался в штабе своего батальона из-за Савчука, заслужившего со стороны ефрейтора нелестные матерные выражения. Бочкарёв схватился с ефрейтором из-за своего друга, но не доругал его до конца, так как Бочкарёва окликнул лейтенант… И вот здесь они встретились снова.
- Половина одиннадцатого, - проговорил ефрейтор и, глянув на Бочкарёва, тоже узнал его:
- Эге! Старый знакомый! Ты как сюда попал?
- Из батальона, с пакетом приехал, - ответил Бочкарёв.
- Не заблудился дорогой?
- Куры засмеют солдата, если он заблудится, - неохотно ответил Бочкарёв, отстраняясь от ефрейтора.
В сенях находился какой-то офицер, судя по всему, имевший какое-то отношение к медсанбату, который, на ходу одевая шинель, заканчивал свой разговор с медсестрой:
- …Вот так и передай Журавлёву – чтоб он бросил мудрить. Привык, как на гражданке – абы как, лишь бы с плеч долой. И пусть учтёт. Это ему в последний раз говорю, и, если не примет во внимание, будем с ним разговаривать по-другому.
Открылась дверь в прихожую, осветив Гараева, который обратился к Бочкарёву:
- Товарищ старший сержант, придётся Вам, очевидно, со штабом следовать до встречи с вашим батальоном. Начштаба приказал идти в разведвзвод и находиться при нём.
- Есть! – Ответил Бочкарёв и посторонился, давая дорогу выходившим офицеру и медсестре.
Пока они шли по коридору во тьме, он несколько раз наступил медсестре на пятки, а у выхода толкнул её, когда медсестра неожиданно остановилась.
По улице передвигался обоз. Были слышны понукания ездовых, фырканье лошадей и что-то тяжело гремело, обгоняя обоз и смачно шлёпая по грязи – шла рота. Кое-где звёздочками вспыхивали цигарки и кто-то негромко командовал:
- Не растягиваться! Не отставать!
Бочкарёв отвязал коня и пошёл от штаба в сторону школы, где размещался разведвзвод. Во дворе школы стоял шум, раздавались шаги, был слышен сдержанный негромкий говор. Шло построение.
- Товарищи, где разведвзвод? - Крикнул Бочкарёв во тьму.
- Выбыл, - из темноты ответил ему кто-то.
- Давно?
- Да вот сейчас только, - ответил тот же голос.
Тут Бочкарёв вспомнил обоз, который видел на улице, и взвод, обгонявший этот обоз, который принял за роту. Он быстро вскочил на коня, повернул его и поскакал догонять разведчиков. Проезжая мимо штаба, он обратил внимание, что там тоже уже шли сборы. Возле крыльца урчала машина.
По улице, невидимые во тьме, двигались подводы, маршевали роты, шли машины с еле заметными полосками света, рассекавшими темноту возле самых колёс.
Бочкарёв старался обогнать движущуюся колонну, зная о том, что разведчики в хвосте не ходят. Обгоняя одну крытую машину, услышал сквозь шум мотора переборы гармошки, придержал коня и вслушался. Гармонист мастерски играл страдания, и Бочкарёву представилось его лицо, лицо простого деревенского парня с голубыми глазами. Кто-то подпевал гармонисту.
Бочкарёв пришпорил коня и, оставив машину позади, поехал быстро. Через несколько минут он догнал голову колонны и громко спросил:
- Где глаза и уши полка?
- А зачем они вам? – Прозвучал ответный вопрос.
- Да вот, я их догоняю.
- Ну, ты их догнал уже.
Бочкарёв соскочил с коня, подошёл к говорившему и пошёл рядом с ним.
Спутник достал карманный фонарик, осветил Бочкарёва, его погоны и спросил:
- По какому делу Вы нас догоняете, товарищ старший сержант?
- Да, ни по какому. Начштаба полка приказал, чтоб я следовал с вами до встречи со своим батальоном.
- А Вы с какого батальона?
- Из третьего.
- От капитана Дубравина?
- Нет. Капитана Дубравина убили, а у нас сейчас комбатом капитан Козин. Он уже давно.
- Капитан Дубравин убит?! Давно?
- Под Смоленском. А Вы кто будете?
- Лейтенант Кузьменко. Ты что, Бочкарёв, не узнал меня?
У Бочкарёва сразу пересохло во рту от волнения. Как лейтенант Кузьменко? И сразу перед ним, как мираж, возник Ржев, и то, как он, тогда рядовой, с четырьмя бойцами по приказу комбата Дубравина на плащпалатке ползком вытаскивал под гул снарядов с поля боя окровавленного и беспамятного лейтенанта Кузьменко, который лежал как мёртвый. И Савчук с тревогой спрашивал, жив или нет лейтенант, и зачем тащить мёртвого, может оставить в ровике. И как санитар подползал к нему, щупал пульс и почему-то шёпотом говорил: «Живой!».
Навстречу колонне, слегка обрызгав идущих грязью, на высокой скорости проследовали три легковые автомашины.
- Краснов, комдив, - предупреждая вопрос Бочкарёва, сказал лейтенант.
Бочкарёв оглянулся назад, желая в темноте увидеть красные огоньки заднего света машин. Но, не увидев ничего, отвернулся, сгорбился и представил себе Краснова, человека среднего роста, подвижного, энергичного, с ясными глазами, которые смотрели сурово и немножко насмешливо. Бочкарёв вспомнил его слова на суде, где судили самострела, из автомата прострелившего себе ступню:
- Самострел - это предатель, трус, который, изувечив себя, думает отсидеться за нашей спиной. Нет ему места среди нас.
Впереди послышался шум идущей колонны, скрип колёс. Лейтенант сказал:
- Это, Бочкарёв, ваш батальон никак идёт.
- А он как впереди очутился?
- А здесь перекрёсток… - Бочкарёв дальше не расслышал, пришпорил коня и поскакал вперёд.
Шум впереди приближался и усиливался. И вот, кто-то засмеялся громко и отрывисто и сказал:
- Славно ты врёшь, Марычев!
У услышавшего знакомый смех и знакомую фамилию Бочкарёва бешено заколотилось сердце. Кажется, всего несколько часов он не был в родном взводе, а соскучился по своим ребятам. Подъезжая к своему взводу, он чуть не сбил с ног солдата, который, очевидно, вышел из строя, чтобы справить нужду. Солдат выругался и отскочил в сторону. Бочкарёв придержал коня и крикнул:
- Где комбат?
Отскочивший ответил:
- Езжай вперёд. Комбат впереди колонны идут.
Бочкарёв спросил:
- А ты кто такой?
Солдат дерзко ответил:
- А тебе кого надо?
Бочкарёв притворно грозно прикрикнул:
- Отвечай, когда с тобой разговаривает офицер!
Но солдат, очевидно, был опытный и счёл благоразумным удрать, что и сделал. Бочкарёв услышал шум удаляющихся шагов, которые слились с шумом проходящей колонны, тронул коня рысью и стал обгонять её. Из колонны доносились обрывки разговоров, в разных местах вспыхивали огоньки цигарок, а в одном взводе кто-то рассказывал анекдоты и слышался приглушённый смех. Бочкарёв догнал голову колонны и крикнул:
- Товарищ капитан!
Из строя откликнулись:
- Да!
- Разрешите доложить! Старший сержант Бочкарёв вернулся!
- А-а, Бочкарёв. А где полк?
- Сзади меня идёт.
- Приставить ногу! – Скомандовал капитан.
Колонна затопталась, и по ней начали передавать команду. Капитан подошёл к Бочкарёву:
- Дай-ка коня.
Бочкарёв соскочил с лошади, передал поводья капитану и услышал, как тот проворно вскочил в седло, повернул коня и ускакал. Спешенный Бочкарёв пошёл искать свой взвод. Солдаты, радуясь остановке, усиленно занялись курением, везде засветились цигарки, послышались шутки, смех. Кто-то весело и беззлобно кого-то ругал:
- Ты, Вася, вырос уже с коломенскую версту, а ни хрена не понимаешь в политике. Какую войну мы сейчас ведём?
- Немца лупим.
- А за что мы его лупим?
- За то, что он к нам без спросу пришёл. Не объявил ничего и пришёл…
Продолжения политразговора Бочкарёв не слышал, так как пошёл дальше. Вскоре он услышал голос Савчука, который кого-то поучал, на что он был мастер.
- Если неправильно завернёшь портянку, то изотрёшь ногу до мосла. Ногу надо заворачивать так, как мать пеленает своего ребёнка. Бережно, чтоб не было ни складок, ни рубцов. Понял?
- Ничего не понял. Ты показал бы лучше, - узнал Бочкарёв голос Прыгунова.
- Вот ты парень бестолковый! Ну, как я покажу? Ты не увидишь сейчас ничего. Вот придём на привал.
Бочкарёв, подойдя к ним, спросил:
- В чём дело, ребята?
Савчук отозвался:
- Прыгунов ногу стёр, не может идти.
- Где он? – Бочкарёв подошёл на голос Савчука.
- Я здесь, товарищ старший сержант, - откликнулся Прыгунов.
Бочкарёв вывел его на обочину дороги, приказал разуться. Прыгунов сел на землю, снял ботинок и размотал портянку. Бочкарёв присел, зажёг спичку, её тут же задуло ветром. Тогда он подозвал Савчука:
- Прикрой нас плащпалаткой.
При свете новой спички он разглядел ногу Прыгунова. У самой щиколотки она была стёрта до крови и ранка вокруг была грязная, от ноги пахло вонючим потом.
- Ты что это, братец, делаешь? Ведь ты свои портянки, наверное, никогда не стирал. С тех пор, как получил, да?
- Некогда было, товарищ старший сержант.
- Врёшь ведь. Скажи лучше, что в санвзводе свободное время проводил с Маруськой.
Прыгунов, немного помолчав, честно признался:
- Да, так и было.
- Ну, смотри, чтобы так больше не было, а то не Марусе, а тебе влетит за твои ноги!
Потом он показал, как надо заворачивать портянку.
В это время по колонне передали команду:
- Шагом марш!
Бочкарёв поднялся с корточек и пошёл к своему взводу. Прыгунов торопливо надел ботинок и тоже побежал догонять своих, уже отошедших далеко.
Бочкарёв шёл рядом с Савчуком, который тихо высвистывал мотив украинской песни «По за лугом». Потом он так же тихо спросил Бочкарёва:
- У тебя мать есть?
- Есть, а что?
- И у меня мать есть. Отца только нет, в тридцать втором умер.
Немного помолчав, он продолжил:
- Когда я иду в наступление, то почему-то вспоминаю мать. Она у меня богомолка. Когда провожала меня в армию, хотела повесить на шею крестик, но я не согласился. Она обиделась и говорит: «Ты, сынок, не в меня уродился, а в отца. Такой же безбожник. Ну да Бог с тобой, всё равно я молиться за тебя буду. Авось, мои молитвы до Бога дойдут и ты жив останешься.» А я ей говорю: «Не надо, не молись, мама. Это всё ерунда. Пиши только почаще письма. Они до меня скорее дойдут, чем молитвы до Бога, я хотя бы буду знать, как ты живёшь.» Ну, она и пишет. О себе ни слова, а всё молитвы, молитвы. Наверное, весь псалтырь переписала. И всё наказывает: «Как будет сильная штурма, читай их и тебя ни одна пуля не коснётся, и враги от тебя отринут, не прикоснувшись». Я ей пишу: «Мама, зачем ты меня молитвами пичкаешь? Лучше напиши, как ты живёшь, какие новости на селе, кого ещё забрали, а кто ещё дома, кем работает дядя Миша (это её брат) и где находится Михаил (мой младший брат, он в университете учился, примерно с Вашего года).» Ну вот, вчера получил письмо. Опять молитвы! Ну что ты будешь делать с ней!
- Да, Алексей, мать есть мать. В заботе и в работе она думает о своём сыне, - задумчиво заговорил Бочкарёв. – Ты знаешь, когда меня мать провожала в армию, то всё наказывала: «Береги себя, сынок, но не будь трусом, не опозорь свою мать. Чтобы не говорили мне, что мой сын струсил и убежал с фронта».
Бочкарёв замолчал и прислушался к шуму, который доносился сзади и не был похож на шум леса или движение колонны. Шум нарастал и, наконец, с высоты донёсся гул моторов.
- Соколики полетели, - проговорил Савчук, - где-то немцам сегодня не сладко придётся, а завтра, видно, ещё солоней.
А сзади кто-то оживлённо рассказывал:
- …Понимаешь, все, как один, здоровенные, краснорожие идут. Рукава закатанные по локоть и жарят из автоматов. Мы поначалу сдрейфили, назад было дерануть собирались. Да спасибо замполиту. Как только он увидел, что мы собираемся драпать и мечемся сами не в себе, как крикнет: «По местам! Вы что, пьяных не видели? Коммунисты – к пулемётам! Не позорьте звание большевиков! Огонь!» Ну мы взялись их шерстить. Передних срежем, а задние через них перешагивают и снова прут. Потом, видно, им невтерпёж стало. Драпанули, аж каблуки засверкали. У их кишки тонки, чтоб без шнапса наступать. У них как наступление, так каждому выдают по поллитре. Ну, они и прут на рожон, выворотив глаза. А как дадут им перцу, так с их весь хмель соскакивает, и они ещё быстрее сматываются обратно.
- Да, - задумчиво заговорил Савчук, - хоть они мотают туда и обратно, драться они умеют, дерутся на нашей земле и «домотались» до Москвы…
- Ничего, Савчук, - сказал Бочкарёв, - они Москву у нас не взяли, а мы их Берлин возьмём.
- Держи карман шире! – Проговорил сзади кто-то. – Покуда мы до него доберёмся, из нас никого не останется. Кем брать-то будем?
- Возьмём! - Весело и упрямо проговорил за Бочкарёва Савчук. – Пусть нас с вами не будет, но возьмём. Возьмут наши друзья, братья и там вспомнят о нас… – Закончил он грустно.
Некоторое время шли молча, только лес шумел над головой глухо и как-то загадочно.
- У нас сейчас, наверное, сено накосили, застоговали, к зиме приготовились, - проговорил кто-то сзади. – Трудно им было – одни бабёшки остались, да старики, да дети малые…
Наутро и с той, и с другой стороны фронта началась артподготовка.
Колонна, в которой шёл Бочкарёв, попала под массированный артобстрел, была отрезана от основных частей нашей армии прорвавшимися на этом участке фронта немецкими войсками и оказалась в окружении.
Что такое плен? Судьба? Рок? Рулетка? Все шли в одной колонне. Кого-то убило, кого-то ранило, кому-то повезло, и он остался невредимым. А кому-то выпали лишения, унижения, пытки и муки по ту сторону фронта, которые, превратясь из физических в душевные, не закончатся и после освобождения из плена, и оборвёт их разве только лишь сама смерть.
С теми, с кем шёл рядом в этой колонне, Бочкарёв больше никогда не встретился, хотя остался жив. Но никогда не считал, что в этом ему повезло.
ОДИН ДЕНЬ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА.
Лагерь Хохенштейн раскинулся на равнине недалеко от города, от которого и получил своё название. С севера к нему вплотную подступал лес, где располагались комендатура и остальные службы лагерной администрации. С запада, востока и юга от лагеря лежали пашни, и местность хорошо просматривалась. С запада, километрах в полутора, на холме возвышался памятник в виде замка, восьмиугольный, с башенками на каждом углу, сложенными из валунов, как и весь замок. Это был памятник первому и последнему президенту Германии Гинденбургу. Примерно в километре на юг проходила дорога, обсаженная по обочинам деревьями. С восточной стороны простиралась равнина. Кое-где на ней были видны домики, окружённые хозяйственными постройками и садами.
Лагерь был в четыре ряда опоясан колючей проволокой, высотой три с половиной метра с вышками по углам, где располагались прожектора. Их лучи в ночное время освещали территорию. На вышках стояли пулемёты и находились по два человека охраны. За территорией лагеря, вдоль его забора от вышки до вышки, днём ходил парный пеший патруль, который ночью усиливался конным патрулём.
Внутри лагерь сеткой из колючей проволоки был разгорожен на блоки по четыре барака в каждом. Пленные их справедливо называли загонами и сараями. Бараки представляли из себя здания по типу ангаров, со стенами высотой около метра, на которые ложилась крыша, крытая толем. Стены были сооружены из фанеры, в два слоя с засыпанными между слоями опилками, но это не создавало в бараках особой теплоты. Внутри них было темно, а окна, вставленные в небольшие ниши, достаточного света не давали. В центре бараков располагались нары в два яруса, шириной метров пять, разгороженные поперёк на две части. Вдоль перегородки тянулись деревянные подголовники, и пленные лежали головами друг к другу. В середине барака и по его торцам стояли печи. Полы были выложены кирпичом. В каждом бараке размещалось до 250 заключённых.
Во дворе одного из блоков, у проволочной сетки, чуть ли не прижимаясь к ней, стоял паренёк лет девятнадцати, среднего роста, коренастый, с исхудавшим лицом, на котором ничего такого, что могло бы остановить внимание, не было. Таких лиц, исхудавших, с ввалившимися глазами и замутнённых невзгодами жизни в неволе, в лагере было много. Паренёк был одет в залатанный разноцветными, пришитыми неумело, кое-как, заплатками немецкий китель и русское солдатское галифе. На ногах его были колодки, целиком выпиленные из дерева и оббитые обрезками кожи – чтобы не треснули и не разошлись. На голове – гражданская фуражка, которая сидела на нём блином, за что паренёк получил прозвище «Блин-кепе», на которое отзывался. В руках он держал, бережно прижимая к груди, большую, с ещё оставшейся кое-где эмалью, но порядком чёрную, чашку. Это был Владимир Бочкарёв.
Он стоял и смотрел, как мимо него грязной серо-зелёно-синей рекой проходили колонны пленных. Наступило время получения обеда, и у всех в руках были котелки, чашки, консервные банки. Над колоннами стояли сплошной шум, гам и звон посуды. Вдоль колонн рыскали немцы-охранники, которые ударами кулаков и пинками старались водворить какой-нибудь порядок. И в том блоке, из-за сеточной изгороди которого выглядывал Бочкарёв, тоже шла суета приготовления к обеду.
Пленные вбегали в бараки и выбегали из них, направляясь к выходу из блока, но их не выпускал часовой, который старался каждого, кто подходил, ударить прутом и, если ему это удавалось, он улыбался. А если не удавалось, то вслед убегающему он раздражался страшной руганью, состоявшей из смеси русских и польских слов. Бочкарёв старался не лезть к выходу, предпочитая стоять в стороне до команды на построение.
Пленные делились на две категории: постоянных лагерников и временных. Постоянный лагерник, то есть тот, который постоянно находился на территории блока и которого не выводили на работу, худ, изжелта бледен от скупой лагерной пищи. Он вечно шатался по блоку и искал, где бы найти что-нибудь съестного. Он старался прислужить, угодить временному, чтобы добиться от него хотя бы картофельной шелухи. Да и одеждой он был не так богат, обычно ходил в лохмотьях. Некоторые доходили до того, что ели то, что доставали из своих нечистот. Но таких, к чести русских, было очень мало. Их презирали даже свои товарищи.
Временные лагерники - те, которых использовали на различных работах, - совсем противоположны постоянным. Они были чище одеты и с работы обычно приносили с собой что-нибудь съестное – картофель, свеклу или овёс. Они держались более увереннее и наглее и, когда приходил вербовщик, старались встать вперёд. Они подхалимничали перед шефом блока, смотрели на него собачьими преданными глазами, стараясь выполнить всё, что он прикажет.
Шеф блока был как стоячий матрац, набитый под завязку, толстый, с большой, как арбуз, головой и румяным лицом. Вид он имел добродушный, но на самом деле это был человек с душой палача. Ему ничего не стоило то удовольствие, которое он испытывал, избивая кого-нибудь из пленных. Перед тем, как начать избивать свою жертву, он визгливо её ругал, потом, как бы неохотно, ленивым движением совал кулаком в лицо и потом так же лениво снимал с себя ремень и начинал «работать» пряжкой, с каждой минутой распаляясь всё сильнее и сильнее. А под конец, как бы совсем войдя в экстаз или припадок, бросался на свою жертву, сбивал её с ног и начинал катать пинками по земле. Если жертва кричала, он свирипел ещё сильнее, а если замолкала, он как бы с неохотой один раз, почти мягко, толкал её ногой и отходил. Звание он имел оберунтерофицер.
Мало кто из постоянных был обойдён его вниманием, следы которого почти все носили у себя на лице, да и в других местах тела. Бочкарёв тоже не избежал этого и тоже имел на теле следы от ударов шефа - у него слипались волосы на голове, проломленной бляхой от ремня.
Он стоял у проволоки и смотрел на проходящие колонны, вслушиваясь и вглядываясь, как бы ища кого-то глазами. Наконец, в колонне мелькнуло знакомое лицо, и он закричал:
- Стручок!
Из колонны на ходу высунулся человек, ничем не отличимый от массы таких же, как он, грязно-серых, и дружественно помахал рукой.
В это время к воротам блока привели двух вновь прибывших. С ними рядом семенил пожилой охранник. Все трое были покрыты пылью и имели уставший вид, так как, по всей вероятности, из города шли пешком. Бочкарёв не особенно ими заинтересовался, поскольку в блок часто приводили и столь же часто уводили из него людей. Их блок был сортировочный.
К Бочкарёву, танцуя, подошёл другой паренёк. На нём, несмотря на сильную жару, было нахлобучено странное подобие шапки, сшитое из шинельных обрезков и подбитое ватой. Одет он был почти также как Бочкарёв, только на ногах его были ботинки с деревянными подошвами, да и лохмотьев на нём было больше. Но пригнаны они были умело, человеком, владеющим иглой. Из-под шапки блестели светлые, как новые полтинники, глаза. Лицо у него можно было бы назвать красивым, если бы не нос, который горбом у переносицы поднимался над лицом. Ноздри у паренька были большие, и он ими как-то странно двигал, как бы к чему-то принюхивался. Ему было, примерно, лет двадцать пять – тридцать. Это был «Балерина». Подойдя к «Блин-кепе», он встал рядом и тоже стал смотреть на проходящие колонны. Потом толкнул Бочкарёва локтем и, показывая пальцем, сказал:
- Посмотри, вон, вон, в колонне третьего блока, кажется, Пестов идёт.
Владимир зарыскал по колонне глазами и спросил:
- Где? Я что-то не вижу.
- Да вон, в третьем ряду. Ну, высокий идёт за ним!
- А! Теперь вижу! Он что-то хромает, наверное, опять что-то наблудил.
Бочкарёв вспомнил, как этот Пестов, когда их пригнали в лагерь, пытался поменяться с ним колодками и за свои колодки просил в придачу 50 грамм хлеба. Колодки были одинаковые и отличались только тем, что у Пестова они были подкованы железными скобами, а у Владимира были оббиты кожей. Он не стал меняться, и Пестов не стал с ним дружить.
«Балерина» перебил воспоминания Бочкарёва вопросом:
- Вовка! У тебя есть лишняя посуда?
- У тебя же была кружка, куда её дел?
- Куда дел! «Тухлый» отнял, когда я стрелял добавку.
- А ты к Пану сходи, он тебе даст банку.
- Откуда она у него? У него отродясь ничего нет своего. Шныряет по бараку, как чёрт по каменке, и ищет, как бы к кому подпариться.
- У него есть, я видел – он у Митрохина выиграл три штуки.
- А… Ну, тогда пойду, попрошу, - и по-прежнему пританцовывая пошёл к бараку.
По всему двору блока сновали и стояли кучками и в одиночку пленные. В одном углу собралось человек пять курильщиков. Они бережно курили по очереди одну папироску, жадно втягивая в себя дым и потом медленно и с неохотой выпуская его синеватыми струйками через нос. Один из них, с печальными чёрными глазами и завитком волос на лбу, в шинели, накинутой на плечи, говорил, поглядывая на папироску:
- Эх, чёрт, бывало, у нас в колхозе насажают его целый гектар, стоит, как лук зелёный. А промеж рядов дед Сафрон ходит - мастер был отменный по части табака - чекрыжит верхушки ножницами…
Его перебил другой курильщик, который, опираясь животом на палку, сворачивал из клочка газеты «козью ножку» и вставлял в неё папироску - чтобы не обжечь губы.
- А для чего он срезал верхушки? Ведь тогда растение может пропасть.
- Вот то-то и оно, что наоборот, - назидательным тоном продолжал рассказчик, - когда он цветёт, вся сила в цвет уходит. А когда цвет вместе с верхушкой сшибёшь, тогда вся эта самая сила идёт в листья, и табак растёт не вверх, а в листья, в стороны.
Курильщик с палочкой снова перебил его, передавая ему козью ножку:
- Неправда, что-то не верю в эту галиматью.
Рассказчик сожалеючи посмотрел на него, махнул рукой, собираясь что-то сказать, но в это время от ворот блока раздалась команда:
- Становись!
По двору засуетился народ, кто-то бежал в барак за посудой, кто-то – к воротам строиться. Через некоторое время колонна выстроилась и тронулась. Когда она вышла за территорию блока, из барака выскочило несколько человек отставших. Они хотели догнать колонну, но часовой у ворот блока их не выпустил. И они сиротливо выглядывали из-за проволочной сетки вслед удаляющимся товарищам.
Колонна вышла на центральную улицу лагеря, обогнула малую кухню, прошла мимо длинного белого здания карцера и остановилась за большой кухней. Впереди колонны стояли пленные из третьего блока. Минут через пятнадцать очередь впереди поредела, третий блок ушёл, и из колонны сортировочного блока стали отделять по сто человек и вести их получать пищу за кухней. Там, где шла раздача, время от времени слышался свисток и вслед за ним - топот ног, возня, звон котелков.
И вот, наконец, дошла очередь до той сотни, в которой находился Бочкарёв. Пленных выстроили по десять человек в ряд и под командой фельдфебеля повели. Колонну поставили напротив десяти окошек раздачи, у которых ещё мешкались пленные из предыдущей сотни. Но тут раздался свисток, и к десяти окошкам ринулась следующая десятка.
У окошек были оборудованы загончики из жердей наподобие стойла для скота, в которые мог втиснуться только один человек. Рядом с окошком постоянно находился контролёр из охранников, чтобы, не дай Бог, кто-то не нанёс экономический ущерб, получив по недосмотру лишнюю порцию. За окошками раздачи стояли полубочки и рядом с черпаком - пленный из рабочего блока. Пища представляла из себя какую-то мутно-белую жидкость, в которой кое-где плавала картофельная кожура – это так называемая картофельная похлёбка или баланда. Получившие её шли к блоку. Один из пленных, высокий, с морщинистым лицом приложился на ходу к котелку, выпил одним залпом похлёбку и сказал:
- Ну вот, всё в порядке, сполоснул брюхо, душа болеть не будет, что не обедал.
Вернувшись в свой, шестой, барак и подойдя к своему месту на нарах, Бочкарёв увидел вновь прибывших, которые расположились рядом с ним. Они сидели друг к другу лицом, а между ними стоял один котелок, из которого они ели, черпая по очереди ложками и проводя черпачком ложки о край котелка - чтобы не капало на нары. Второй котелок стоял рядом.
Бочкарёв осторожно поставил свою чашку на нары, влез на них, передвинул чашку ближе к себе, вытащил из-под подголовника шинель, пошарил в карманах, достал ложку и начал есть. Он старался есть медленно, чтобы продлить свой обед. Но как он ни медлил, донышко чашки всё-таки показалось, и Владимир с сожалением поскрёб по нему ложкой. Соседи в это время закончили есть из второго котелка, и один из них, захватив посуду, побежал её мыть в кипятильню. Бочкарёв пошёл вслед за ним.
Кипятильня размещалась в одном помещении с туалетом, отделённая от него перегородкой. Когда Владимир вошёл туда, в кипятильне уже было много людей, и шла возня около бака с кипятком. Сосед уже достал кипятку и мыл котелки. Бочкарёв втиснулся в очередь, наступив на ногу Пану - сухонькому, маленькому пленному, с морщинками у голубых глаз, разбегавшимися к вискам, отчего казалось, что он всё время смеялся. Пан толкнул Владимира в бок плечом и закричал:
- Куда тебя чёрт несёт! Вылупил шары и прёт, как по пустому месту.
Бочкарёв примиряющее улыбнулся и сказал:
- А ты, Пан, не ходи босый, иначе калекой будешь.
Пан в ответ опять закричал:
- Ах, ты, в рот тебе дышло, чтоб в зад вышло! Да ты моей сопли не стоишь, а ещё калечить меня собрался! Свинья! Хоть бы пожалел.
Владимир поднял руки и погладил его по голове, приговаривая:
- Миленький мой Панчик, некому тебя пожалеть, и каждый норовит наступить тебе на лапки.
Пан взорвался словами самой неслыханной, непереводимой на русский польской брани был готов броситься на Бочкарёва с кулаками, но тут подошла его очередь, и он, набирая кипяток, только продолжал ругаться.
Владимир набрал кипятка в свою чашку и подошёл к Пану:
- Слушай, давай помиримся. Прости меня.
- Да ладно, - весело бросил Пан, - чего не бывает, прощаю! Да и меня чёрт дёрнул лаяться. Всё, забыли.
Возвращаясь к своему месту, Бочкарёв краем уха услышал, как один из вновь прибывших рассказывал другому о ссоре их соседа с Паном.
Новенький, ходивший мыть котелки, был высок ростом, волосы носил с зачёсом назад, открывая гладкий, без единой морщинки лоб с глубоко уходящими под него глазами, над которыми раскинулись крылья бровей, густых, широких, сросшихся у переносицы. Нос у него был прямой и немного спадал к губам, как клюв у хищной птицы. Губы его были плотно сжаты и даже, когда он улыбался, оставались неподвижными. Он имел вид гордый и немножко мрачный, под стать фамилии – Мрачнов. Звали его Фёдор Николаевич.
Его товарищ, Борщов Алексей Сергеевич, был полной противоположностью Мрачнову. Более всего обращали на него внимание его глаза, большие, выразительные, и когда он говорил, казалось, говорили и его глаза. В них, как на экране, отражалось всё. Рассказывая или поясняя что-нибудь, Борщов всегда смотрел собеседнику прямо в лицо, и, казалось, читал все его мысли. Роста он был ниже среднего, худощав. Можно было сказать, что красив лицом, если бы не лоб, который углом поднимался от висков к макушке, чуть выпирая и нависая над лицом. Его светло-русые волосы были зачёсаны назад и в виде чуба немножко ниспадали на лоб. Нос был короткий, прямой. Губы его были всё время приоткрыты, и когда Борщов улыбался, открывались подковки мелких, плотных зубов. Пальцы на его руках были тонкие, неспокойные – постоянно находились в движении: барабанили по колену или он ими похрустывал, надавливая ладонью.
Несмотря на явную противоположность, оба новеньких были друг к другу внимательны, заботливы, как братья.
Мрачнов, увидев, что Владимир лезет на нары, бросил рассказывать и лёг на свой матрац. Борщов обратился к Бочкарёву:
- Послушайте, с кем Вы там поругались, из-за чего? Расскажите, а то Федя не умеет рассказывать.
Владимир не стал противиться. Борщов слушал его внимательно, с интересом, не перебивая. Когда Бочкарёв закончил и уже собрался лечь и вздремнуть до времени получения хлеба, Борщов спросил его: «А Вы извинились перед ним?», и, получив утвердительный ответ, сказал:
- Молодец! Не потеряли ещё человечность.
Бочкарёв удивился этим словам и посмотрел на Борщова вопросительно.
Тот, восторженно сияя глазами, перелез через Мрачнова, и сел рядом с Владимиром.
- Понимаешь, ты молодец! – Повторил он, хлопая Бочкарёва по плечу.
- Ничего не понимаю, - чистосердечно признался Владимир, - при чём тут человечность.
Борщов засмеялся и покачал головой:
- Видишь ли, мы с Фёдором Николаевичем спорили, что человек, попадая в такое вот положение, постепенно теряет всякое чувство уважения к ближнему и становится другим. То есть, он думает только о себе, а на других ему наплевать. Это говорил Федя. Я же думаю совсем по-другому: если человек попадает в такое положение, в каком сейчас находимся мы, имея хоть чуточку хорошего воспитания, сжился с ним в другой обстановке, и оно стало его вторым я, он и здесь это не забывает. А если человек воспитывался в дурном обществе, он и в хорошее время будет невежей. Ну, а как Ваше мнение, сосед? Простите, мы до сих пор не познакомились, как Вас зовут?
Бочкарёв представился и сказал:
- Простите, я правда не понимаю, при чём здесь воспитание.
- Воспитание? – Переспросил Борщов. – О-о! Воспитание много значит. Я, кажется, уже сказал, что хорошее отношение к окружающим и вежливость у человека остаётся как бы в крови. И, если по нечаянности он сделает другому человеку больно, то извинится.
- Алексей Сергеевич, - заговорил Мрачнов, - Вы как Коротаев у Льва Толстого. Точь в точь!
Борщов тихо засмеялся:
- Вы ошибаетесь, Фёдор Николаевич, сейчас не такое время, чтобы быть коротаевыми. Сейчас всякую святость и всякое смирение за борт выкинули. Да и сами времена не такие, как при Льве Николаевиче, совсем другие. Совсем… - Борщов сделал ударение на последнем слове. – Сейчас нужны другие люди и другие слова.
Коротаевские святость и смирение ни к чему, да и неуместно всё это…
Бочкарёв сидел и слушал. Он читал «Войну и мир», знал, кто такой Коротаев, и Коротаев ему нравился, а сейчас, из разговоров соседей понял, что это неправильно.
В это время хлопнула дверь барака, оттуда раздалось, откликнувшись эхом во всех углах барака и на разных голосах: «За хле-е-бо-ом!».
За хлебом! - На нарах завозились, начали с них спрыгивать и двигаться толпой к дверям. А там уже набирались добровольцы идти за хлебом и старшие двадцаток, на которые было разделено всё население барака. Проверялись списки, выкрикивались фамилии, выбывших вычёркивали, прибывших вписывали. Соседи Бочкарёва попали в его, пятую двадцатку, из которой накануне выбыли двое.
Когда набралось достаточно добровольцев, вошёл Алифанов, комендант барака, пересчитал их, одного отделил, и, ничего не говоря, направился к дверям. Добровольцы последовали за ним. Когда они вышли, все, кто находился в бараке, высыпали за ними и встали возле сетки, наблюдая ха уходящими.
В это время из-за кухни, за которой скрывалось здание карцера, вывели на «прогулку» карцерников. Их было тринадцать человек. Двое замыкающих несли бревно. Увидев эту процессию, Бочкарёв содрогнулся, у него заломило руки, закружилась голова. Он знал, что это за штука, которую немцы называли по-русски - «стоять под бревном». Пять минут такого «стояния» было равноценно пятидневному заключению в карцере.
На площадке недалеко от сортировочного блока карцерников остановили, и началась «прогулка». От общей группы отделили рослого, усатого, с густой, небрежно взбитой пятернёй копной волос, пленного. Шеф карцера, гибкий, как уж, и страшный в своей молчаливой злобе, указал ему на бревно. Пленный медленно подошёл к бревну, неохотно нагнулся и поднял его. Немец покрикивал:
- Hoch, hoch! Noch, noch!
Пленный медленно стал поднимать бревно на вытянутых руках над головой. Лицо его начало краснеть от напряжения, и он чуть заметно качался.
В это время шеф занялся остальными. Он построил их в одну шеренгу, заставил присесть на корточки и прыгать, не теряя равнения. Сам же шёл сзади и «помогал» пинками в зад отстающим догонять остальных. У одного отстающего, наверное, болели ноги, и он никак не мог прыгать, и при «помощи» шефа он при каждом прыжке зарывался носом в песок. По его лицу было видно, как он страдает, и с какими великими муками ему достаётся каждый прыжок. Губы его кривились, глаза широко раскрывались.
Стоявший с бревном не выдержал, закачался и рухнул навзничь, уронив бревно на себя. В толпе пленных раздался крик, разошедшийся ропотом по всему лагерю. Бочкарёв оторвал взгляд от упавшего и оглянулся вокруг. Рядом с ним, стиснув зубы и с полными злобы глазами, стоял Мрачнов. Он, не мигая, смотрел на упавшего. Тут же, нервно похрустывая пальцами, но со спокойным лицом, находился Борщов.
Бочкарёв снова обратил свой взгляд на площадку перед блоком. К упавшему подскочил шеф и стал пинать его ногами, стараясь поднять. Поняв, что это безуспешно, что-то крикнул в сторону карцера. Из-за угла вышел охранник, неся в руках ведро воды. Шеф взял ведро и окатил из него лежащего. Однако тот даже не пошевелился.
Тогда шеф подозвал двух других карцерников и приказал отнести потерявшего сознание их товарища в карцер. Они нагнулись, взяли его один за ноги, другой – за руки, но поднять не смогли - оба были настолько замучены, что им это оказалось не под силу. Шеф подошёл к ним и, ничего не говоря, ударил кулаком по лицу сначала одного, потом другого и снова указал на лежащего. Карцерники снова взялись за своего товарища и через силу волоком потащили его по земле. Шеф, ещё минут пять погоняв остальных, повёл их в карцер. Двое тащили бревно, положив его на плечи. Остальные пленные провожали карцерников до тех пор, пока те не скрылись за углом кухни, потом заволновались, зашумели, послышались отдельные выкрики:
- Видели, что они делают с нами! – Слышалось в одном месте.
- Нет, стояли с закрытыми глазами!
В другом месте кто-то высказывался:
- Ну, это ещё щекочут! Посмотрели бы, что было в сорок первом! Тогда было совсем другое…
Его перебил голос Пана:
- Знаешь, нечего нам о сорок первом напоминать.
- А ты сам с какого года здесь? – Спросили Пана.
- Здесь-то я недавно, месяца три.
- Не об «здесь» спрашиваю, а в плену.
- Я-то с сорок первого, а ты с какого?
- Мы с тобой ровесники.
Бочкарёв молчал. Борщов оглядывал площадку. Мрачнов старался расплести проволоку у сетки, но это ему не удавалось. Тогда он бросил это занятие и скрестил руки на груди. Тут вернулись, неся хлеб, Алифанов с добровольцами, и все тронулись в барак делить хлеб.
Когда Бочкарёв вошёл в барак, хлеб уже был сложен у коменданта барака в его каморке, располагавшейся у входа. Старшие двадцаток получали хлеб по три булки общим весом один килограмм восемьсот грамм. Их то и дело спрашивали:
- На сколько человек буханка?
- На семь, - отвечали они.
В одну семёрку с Бочкарёвым попали Борщов и Мрачнов. Начали препираться, кому делить хлеб. Никто не хотел браться за это очень ответственное занятие, тогда вызвался Мрачнов. Кто-то сбегал и принёс самодельные деревянные весы, состоявшие из трёх палочек, одна из которых была длиннее других двух. Поперёк неё была привязана верёвочка. Две других палочки также верёвочками были привязаны к длинной с обеих сторон и заострены на концах, чтобы втыкать порцию. Мрачнов разрезал хлеб на семь приблизительно равных частей, выбрал одну и по ней стал уравновешивать остальные, после чего спросил:
- Ну, что? Кричать будем или так разберём?
Пленные стали молча разбирать хлеб. Бочкарёв шёл к своему месту со своим куском, понемножку откусывая от него. Его догнал Борщов, который свой кусок завернул в платок и тискал в карман шинели.
- Вовка, ты хоть к чаю оставь, что ты ешь его сухарём?
- Знаешь, Алексей Сергеевич, никак не могу утерпеть, просто машинально само собой получается, и кусаю.
- Давай, я тебе его сберегу.
Владимир недоверчиво посмотрел на Борщова, а потом как бы нехотя протянул.
- Не бойся, не пропадёт, - подбодрил его Борщов, вынимая из кармана и разворачивая свёрток с хлебом и кладя порцию Бочкарёва вместе со своей, - у меня будет целее. А когда получишь чай, тогда возьмёшь хлеб. Что толку с того, что ты ешь его сухим? А с чаем - другое дело.
Они подошли к своим местам, где уже сидел Мрачнов, который тоже протянул свой хлеб Борщову. Тот положил его порцию в тот же свёрток, где уже лежал хлеб его и Владимира, потом залез на нары и положил свёрток в свой вещмешок. Бочкарёв сказал ему:
- Алексей Сергеевич, знаешь что? Ты не оставляй мешок, а то ни мешка, ни хлеба не оставят.
- Почему? Неужели украдут?
- Конечно, не оставят.
Мрачнов, много не говоря, придвинул мешок к себе и положил на него голову.
У одного из окон в это время началась драка. Борщов заинтересовался, в чём дело, и слез с нар. Бочкарёву не хотелось лежать, он тоже слез и пошёл за Борщовым. Но к их приходу драка уже кончилась, и только шла перебранка.
Оказывается, Пан сел играть в карты с Долотовым, наглым парнем, который где-то доставал табак и занимался торгашеством. Он проиграл Пану восемьдесят крышечек от банок из-под ружейного масла табаку, но, закончив играть, преспокойненько собрал проигранный табак и ссыпал его себе в большой кисет. Пан потребовал выигрыш. Долотов, будто ничего не слыша, встал и пошёл от окна. Тогда Пан схватил лежавшую рядом с ним картофелину, запустил ею в Долотова и попал ему в голову. Долотов в ответ кинулся на Пана, но тот быстро юркнул под нары. Долотов схватил чьи-то колодки, бросил ими в своего соперника и разбил их. После этого на Долотова накинулся и хозяин колодок. В конце концов, пленные общими усилиями уговорили всех троих прекратить драку, а Долотова под угрозой вернуть проигранный табак П
ну. Когда Борщов и Бочкарёв подошли, Долотов уже отсчитывал табак, а Пан с торжествующим видом принимал его, сидя на верхних нарах. Вокруг стояла и сидела большая толпа народу. Получив весь табак сполна, Пан закричал:
- Ну что! У кого есть продажная шинель, тому отдам за неё все восемьдесят крышечек!
Красная цена шинели была пятьдесят крышечек табаку, и к Пану сразу же подсели несколько человек, наперебой предлагая ему свои шинели. Пан тщательно рассматривал каждую и ругался с продавцами.
- На кой чёрт ты суёшь свои ремки, когда у меня своя такая? А это что такое? Шинель? Да ты смеёшься надо мной. На кой ляд мне твоя дерюга, в ней козявок до чёрта, аж по верху табунами ходят!
В это время к нему по нарам подобрался паренёк с печальными глазами и предложил свою шинель. Пан окинул её взглядом и, недолго думая, протянул пареньку пакет с табаком, потом спрыгнул с нар, стянул с них шинель, накинул её себе на плечи и с комичной важностью, выпятив брюхо и подперев руками бок, тронулся вдоль барака, волоча шинель по полу. Сзади чей-то озорной голос крикнул:
- Расступись, Его Превосходительство идёт, главнокомандующий вшиво-блошиного войска и грозный пожиратель крыс!
Пан перестал паясничать и закричал в ответ:
- Эй, ты, мокроштанник! Давно ль перестал в штанах рыбу ловить?
Борщов сказал Пану:
- Слушай, Пан. Ну их! Пойдём, поговорим.
Пан, даже не взглянув на Борщова, пошёл за ним. Они, а вместе с ними и Бочкарёв, забрались на нары и стали знакомиться. Пан, а это была его фамилия, носил имя и отчество Ксенофонт Осипович. Ему было около пятидесяти лет, он уроженец Сибири. Мрачнов, услыхав это, оживился и спросил:
- Откуда Вы из Сибири-то?
- Из Новосибирска, а Вы откуда?
- Из Омска. В общем, соседи.
Пан схватил его за руку и хотел сказать что-то важное, но в это время от двери закричали: «За чаем!», и он только бросил:
- Вечером поговорим, - и, спрыгнув с нар, убежал, забыв на нарах шинель.
Все высыпали на улицу. Солнце уже садилось за горизонт, кутаясь в тучи, застлавшие всё небо. Бочкарёв встал в хвосте колонны, и она заколыхалась, выползая из блока.
Получив чай – мутноватую тёплую жидкость ржавого цвета со вкусом помоев - и возвращаясь к своему месту, Бочкарёв увидел, как Пан затаскивал на нары свои вещи, состоявшие из до дыр заношенной шинели, у которой целым оставался только ворот, а остальное ползло ленточками, трёх банок, выигранных в карты, полдесятка колодок разных размеров и вещмешка, набитого другой всячиной. Владимир забрался на своё место, смотрел, как Пан хлопотал рядом, рассовывая своё хозяйство, и ждал Мрачнова с Борщовым. Когда они пришли, все вместе попили чаю, и Бочкарёв решил прилечь до вечерней проверки, так как почувствовал какое-то предобморочное состояние. Он лёг, потом привстал и вдруг неожиданно куда-то провалился, как в темноту.
Когда очнулся, проверка уже прошла, вокруг него сидели его соседи. Как только Бочкарёв зашевелился, к нему сейчас же нагнулся Борщов и поднёс к губам чашку с водой. Вода холодно побежала за воротник, зубы выстукивали дробь по краю чашки, которую в темноте неловко нагибал Борщов. Придя в себя, Бочкарёв осторожно отстранил руки товарища, сел и спросил:
- Проверка была?
- Ты лежи, тебе нельзя вставать, - ответил Борщов, снова укладывая его.
Бочкарёв покорно лёг и стал осматриваться вокруг, ровно в первый раз оказавшись в данном месте, потом устроился поудобнее, натянул на себя шинель и уснул. Сквозь сон он слышал, как будто рядом, недалеко что-то бубнило, а потом, когда он совсем засыпал, как-то отдалённо, неясно и глухо долетали какие-то стройные звуки, будто гудели осы. Потом он увидел себя лежащим на кровати, и кто-то будто поставил ему на ноги патефон, который ему мешал, и он не в силах был его сбросить. Он хотел позвать кого-нибудь на помощь, но голоса у него не было. Он напрягал всю силу горла, но звука не раздавалось никакого. Наконец, он толкнул что-то ногой и проснулся. На его ногах и вокруг него сидели люди, которые пели. Но он подумал, что они кричат, и тоже раскрыл рот.
Свет в бараке горел, сидящие рядом увидели перекошенную физиономию Бочкарёва, его раскрытый рот и разразились хохотом. Мрачнов, сидевший рядом с ним, хлопнул Владимира по раскрытому рту ладонью и привёл его в чувство. Бочкарёв тут же опомнился и узнал песню. Пели русскую песню, «Калинушку». Это было так неожиданно, что он молча стал вслушиваться в задушевные печальные мотивы, думая, что это происходит с ним во сне. Закончился куплет, и Борщов, который был запевалой, начал новый. У него был мягкий ласковый тенор, и запевалой он был превосходным. В это время чей-то басок ладно вплёлся в тенор Борщова и повёл песню вместе с ним. Бочкарёв вслушивался в слова, знакомые с детства, и в памяти повторял их, не вступая в песню. Вспоминал дом, гулянки в доме, и как эту песню пели гости. Воспоминания разволновали его и он, растолкав сидящих, слез с нар и пошёл в кипятильню.
Войдя в помещение кипятильни, он застал там одиноко сидящего Пана. Тот расположился возле бака и задумчиво смотрел в пол. Когда Бочкарёв вошёл, Пан приподнял голову и спросил:
- Поют?
- Да, - ответил Владимир и спросил его, - а ты почему здесь сидишь?
- Да так… - Пробормотал Пан, потом, немного помолчав, сказал: - Знаешь, когда они запели, у меня словно внутри что-то оборвалось. Я не мог слушать и петь. Ты погляди на них, почти все доходяги, аж смотреть страшно, в гроб краше кладут. Ведь они на краю могилы, а поют. Я было присоединился, а потом…, а потом… - он недоговорил, обхватил голову руками и заплакал.
Бочкарёв тоже не выдержал, обхватил Пана за плечи и тоже заплакал. Потом, когда оба выплакались, им стало легче, и они продолжили разговор.
- Понимаете, дядя Ксенофонт, я тоже, как только я услыхал песню, вспомнил дом, мать, - заговорил Владимир, всё ещё обнимая Пана.
- Да и мне, Володя, тоже вспомнилось всё, чем я жил раньше. Вспомнил детей своих, супругу, колхоз свой, лес вокруг, да и много чего ещё, о чём в двух словах не расскажешь.- Пан немного помолчал и тихо продолжил. – Ведь вот какой человек Алексей Сергеевич подходчивый. Когда прошла проверка, он собрал ребят и говорит: «Хлопцы, давайте что-нибудь споём». Ребята говорят: «Давай». Он повёл их к себе на нары, рассадил и стал запевать наши сибирские песни. На меня напала какая-то хандра, я и удрал сюда погрустить, а тут тебя принесло. Вот и сронил горькую слезу. - Кончил он своим шутливым тоном. Потом встал и сказал:
- Пошли, Вова, погрустили и хватит.
Подходя к своему бараку, они услышали, как пели песню, в которой сирота жаловался на свою судьбу, что похоронят его на чужой стороне и из родных никто не узнает, где его могила. Пан дёрнул Бочкарёва за рукав и шёпотом сказал:
- Пойдём в другой барак!
Войдя в соседний, восьмой барак, они удивились его необычайной тишине и отсутствию суеты возле печи, где в это время обычно что-нибудь варили – картофельные очистки, полоски кожи от ремня, пойманную крысу или что-то подобное. Они прошли по всему бараку, заглянули на верхние нары – нигде ни человека, только в дальнем углу хрипел чахоточно больной, лежавший на матрасе, брошенном прямо на пол. Увидев Бочкарёва и Пана он прохрипел:
- Дайте, ради Бога, воды! Всё пересохло внутри.
Владимир, схватив лежавшую рядом с больным банку, помчался в кипятильню. Забежав в неё и открыв кран, он обнаружил, что воды в баке нет. Тогда он открыл крышку и поскрёб по дну бака. Дно было сухое. Бочкарёв зашёл в уборную, где была замаскированная оторванная доска, и перелез в соседний третий блок. Здесь в кипятильне бак тоже был пустой. Владимир раскачал его, наклонил и зачерпнул немножко, треть банки.
Когда он возвращался обратно, у входа в восьмой барак его уже поджидал Пан:
- Всё. Не нужно воды. Он уже умер.
Бочкарёв не удивился, поскольку смерть в их рядах была частым гостем, и он к ней привык, как на фронте привыкают к пулям и снарядам, которые часто свистят над головой. Владимир не знал, что теперь делать с ненужной банкой, и поставил её на землю возле барака.
- Куда пойдём? – спросил он Пана.
- Пойдём к себе, нечего нам бегать, - ответил тот и решительно двинулся к своему бараку.
Войдя в барак, они увидели в нём в сборе весь блок. Народу было набито, что называется, битком. Люди сидели на нарах, стояли в проходе вплотную друг к другу и слушали. В бараке властвовала песня. Её пели более ста человек, дирижировал которыми Борщов. Он стоял на нарах и размахивал руками, осаживая слишком ретивых горлопанов и ободряя тех, кто пел нерешительно и робко, отвыкнув от песен. Звучала украинская «Распрягайте хлопцы коней». Запевалой был высокий украинец с ярко и лихорадочно блестевшими глазами, с синим шрамом, который пересекал ему подбородок, потом круто поворачивался, шёл вдоль нижней губы на правую щеку и терялся в волосах на виске. Его голос был похож на голос Козловского, мягкий, приятный. Первую строку куплета запевал он один, на второй строке ему помогал Борщов, который в лад и в тон с запевалой заканчивал первую половину куплета, разводил руки в стороны и хор подхватывал вторую часть куплета.
Бочкарёв впервые за всё своё пребывание в плену слышал, как пело столько много людей. Иногда собирались во дворе временные, пели, но как-то вразброд и несогласованно. Здесь же пели дружно, под руководством Борщова и подчиняясь его жестам.
Закончили «Распрягайте хлопцы коней», наступила тишина, временами нарушаемая кашлем или сморканием.
- Ну, какую ещё споём? – Спросил Борщов.
В это время от сильного удара и толчка взвизгнула дверь барака, в неё влетел пленный и крикнул:
- Патруль!
Толпа загудела и заметалась. Борщов, покрывая шум, прокричал:
- Всем на нары, накрыться шинелями!
Пленные, мешая друг другу, стали устраиваться кто где успел. Некоторые, пыхтя и матерясь, лезли на верхние нары. Место Бочкарёва было уже занято, на нём лежало двое друг на друге, и Владимир втиснулся рядом с ними. Лишь только все угомонились, дверь в барак снова резко распахнулась от удара ноги, и вошли двое патрульных в касках и с автоматами, висевшими у них на плечах. Они немного постояли у входа, и один крикнул:
- Аufstehen!
На нарах завозились, кое-кто спрыгнул вниз. Патрульный, тот, который подал команду, засмеялся, и оба вышли. Спустя несколько минут, очевидно, побывав в других бараках, они подняли тревогу и побежали к воротам лагеря, где стояла караулка. В это время пленные из других бараков стали расходиться - кто через окно, кто через заднюю дверь. Когда все уже разошлись, на улице послышались топот множества бегущих ног и выкрики команд. Вновь взвизгнула и резко распахнулась дверь барака, и в него вбежала большая толпа охранников. Они сновали между рядами и кричали, чтобы все пленные вставали. Некоторые просто молча совали прикладами автоматов и винтовок, куда попало. Пленные вскакивали с нар и вытягивались. Немцы толкали всех к выходу:
- Nach Platz! Nach Platz!
Пленных выгнали из барака и стали считать. Прожекторы всех вышек были направлены на сортировочный блок, и после полутьмы бараков их яркий свет разил пленным глаза. Из других бараков блока тоже выгоняли пленных и строили. Вдоль строя шестого барака бегал полуодетый Алифанов, которому немцы разбили лицо. Он бестолково метался, выкрикивал старших, приказывал им проверять пофамильные списки.
Всё это вместе производило невообразимый шум и суету, замеченные в соседних блоках. Пленные из них тоже высыпали на улицу и смотрели в сторону сортировочного блока.
В это время прибежал поднятый по тревоге шеф, который, пыхтя и ругаясь тоже начал бегать вдоль колонн. Когда всех пересчитали и все оказались на месте, он вызвал к себе комендантов бараков и наказал, что если ещё раз повторится такое «безобразие», он всех комендантов отдаст под суд лагеря, вернее, под власть «чёрных», которые не жаловали никого. Когда человек попадал к этим слугам смерти, он оттуда живым, обычно, не возвращался. А если возвращался, то уже не был человеком и долго не жил. Как бы подкрепляя свои слова, шеф сунул кулаком сначала в одного, потом в другого коменданта и так их всех прошёл по порядку. Закончив назидания и, подкрепив свои слова действием, шеф пошёл вдоль колонн пленных и стал каждого, кто стоял в первом ряду, бить кулаком, куда попало. Потом, очевидно устав, рявкнул:
- Nach барак!
Колонны враз рассыпались, и пленные, толкая друг друга, понеслись к баракам. В дверях создалась толкучка, каждый старался пролезть первым. Давка была невероятная, над толпой стояли шум, крики, стоны. Кого-то придавили, и он орал благим матом.
Борщов дёрнул за рукав Бочкарёва, потом, и они побежали вдоль барака к окну. Забравшись через него внутрь, они залезли на свои места. За ними последовали ещё человек десять, которые тоже разошлись по своим местам. В дверях всё ещё была давка. Борщов соскочил с нар, подбежал к выходу и закричал:
- Куда прёте, бараны?! Забыли, что ещё дверь есть? Окно открыто!
Его, очевидно, услышали, и давка стала меньше. Через полчаса барак угомонился. Мрачнов шутил:
- Видите, Алексей Сергеевич, и попели, и поплясали!
- Ничего, Николаевич, ещё споём, а когда наши придут, и спляшем! – Ответил Борщов.
Бочкарёв придвинулся к нему и спросил:
- А что, Алексей Сергеевич, когда наши выгонят немцев с нашей территории, наверное, заключат мир?
- Нет, дорогой мой, мира не будет. Мир будет тогда, когда наши совсем прихлопнут фрицев. Оставь их, не добей, через несколько лет они оклемаются и опять полезут на нас. Если начали бить, то надо бить до конца, чтоб они не ожили. Пусть даже если мы не останемся в живых. Пусть. Не надо быть эгоистами. Конечно, обидно, что нам может быть не суждено увидеть конца войны, но это всё ерунда! Лишь бы наши победили, а не немцы!
- Да, хорошо бы было! Пришли бы наши, освободили нас и домой отпустили!
«Езжайте, - мол, - браточки, намучились, хватит с вас». – Сказал Бочкарёв мечтательно. Но потом вдруг зло тряхнул головой и зашипел гадюкой. – Не-ет! Я бы не поехал! Я бы своими руками задушил человек десять за мои мучения, за мои страдания, за смерть моих друзей!
Он кинул взгляд, полный неугасимой злобы, в ту сторону, где располагалась администрация лагеря, потом махнул рукой, лёг навзничь и глухо проговорил:
- Они ведь нас не оставят, сволочи! Всех поугоняют, когда наши придут, а если не угонят, то перебьют, - укрылся шинелью с головой и затих.
Борщов стащил с его лица шинель и спросил:
- Тебе страшно умирать, Володя?
- Да, страшно, - чистосердечно сознался Бочкарёв, - ведь я, Алексей Сергеевич, по существу ещё не жил. Только начал подрастать, только начал набирать ума, как пришла война. Первым проводили отца. Через несколько месяцев получили похоронку. В 1942 забрали меня. Когда ехал в армию, душа пела, и я всё уговаривал маму: «Что ты плачешь? Гляди, какие идут. А я чем хуже их? Не плачь, вернусь живой, невредимый.
И, помолчав, добавил:
- Судьбу не предугадаешь. Не знаю, вернусь или нет.
- А я вот смерти не боюсь, - сказал Борщов, - боюсь умереть бесцельно, не сделав ничего существенного. Пусть незначительным делом, но помочь своим.
Владимиру стало стыдно за своё сетование на судьбу, и он решил сгладить, как он посчитал, некстати сказанные слова:
- А чем можно помочь, Алексей Сергеевич? Сами видите – в клетке сидим.
- Да, в клетке сидим, - сказал Борщов, - но учти, Бочкарёв, зверь тоже в клетке сидит, а бывает время, и ему надоедает сидеть и он иной раз убегает. А если не удаётся – убивает своего укротителя.
- Я уже пытался два раза, Алексей Сергеевич, но оба раза неудачно, - горько сказал Бочкарёв.
- Ну и что ж, что не удалось, это не беда. Зато, может, в третий раз удастся, - подбодрил его Борщов.
- Нет уж, видно отбегался. Куда ещё я со своим здоровьем побегу. Только обузой буду тем, с кем пойду. А одному мне не уйти. Я где-нибудь сдохну.
- Ничего, Володя, если попадутся хорошие друзья, они тебя не оставят и обузой ты им не будешь. Если бы у тебя эта болезнь была буйная, ты бы мог их выдать нечаянно. Но она у тебя такая - если что случится, ребята возле тебя посидят и это им будет вместо отдыха. Ну, давай, теперь спать будем, а то скоро рассветёт. – Он завернулся с головой в шинель и скоро стал мерно сопеть, уснул.
Бочкарёву не спалось. Он лежал с открытыми глазами, смотрел в темноту, но ничего не видел, будто глаза его были завязаны. Только временами по окнам ударял прожектор, свет зайчиками разбегался по нарам, потом пропадал, и снова плотно надвигалась темнота.
У Владимира одна мысль сменяла другую. То он думал о матери – как она живёт и жива ли, то о своём дяде, который жил и работал в одном совхозе с матерью, то о том, что хорошо бы сейчас немного поесть – в животе неприятно сводило. Потом он повернулся к Борщову и сон взял его в свои объятья.
Проснулся он от толчка и увидел рядом с собой Борщова, который его будил.
- Ты что, Алексей Сергеевич?
- Вставай, за чаем опоздаем, - сказал Борщов, слезая с нар.
- За каким чаем? Ещё рано.
- Как за каким! Слышишь, уже немцы ходят.
- Нет, Алексей Сергеевич, это «мертвечатники», - пояснил Бочкарёв, снова намереваясь лечь.
Борщов залез на нары, сдёрнул с него шинель и спросил:
- Какие «мертвечатники»?
Бочкарёв, недовольный тем, что его разбудили, пробурчал:
- Какие-какие – такие, которые заходят в барак и спрашивают: «Kaput есть?»
И как бы в подтверждение его словам открылась дверь барака, зашли три немца, и один из них громко спросил:
- Каput?
Из дальнего конца барака кто-то отозвался:
- Есть!
Немцы прошли в направлении голоса и через некоторое время вернулись обратно, волоча по полу умершего. Бочкарёв вскочил и посмотрел на него. Это был молоденький парнишка, почти мальчик, из новеньких. Его место было в самом конце барака на сложенных друг на друга досках и постланном на них матрасе – на нары его не положили, так как от паренька сильно пахло – он оправлялся под себя, и за ним никто не ухаживал. Он по целым дням и ночам пронзительно стонал и только накануне стал хрипеть, а под утро умолк. И вот его уже тащили, ухватив за руки специальными кожаными петлями. Голова его была откинута назад, и виднелась жёлтая, исхудавшая, тонкая шея. Брюки были расстёгнуты. Когда его тащили, они сбились к ногам, обнажая грязное худосочное тело.
Когда паренька протащили мимо, Борщов дёрнул Владимира за рукав и спрыгнул с нар. В это время мимо них третий немец протащил на длинном крюке матрац умершего, на котором было сложено всё имущество паренька – колодки, шинель и жестяная банка.
Выйдя из барака, Бочкарёв и Борщов увидели у ворот блока большой грузовик с открытым задним бортом. Мёртвого паренька подтащили к машине и, почти не размахиваясь, швырнули в кузов, где он глухо ударился об пол.
Из пятого, седьмого и восьмого бараков тоже вытащили умерших: из пятого пятерых, из седьмого троих, из восьмого – одного, того, для которого Владимир накануне доставал воду. Их всех покидали в машину, а вслед за ними и их вещи, связанные тюками.
Машина отъехала. Бочкарёв и Борщов пошли к своему бараку. Вдруг Владимир заметил на земле что-то белое, нагнулся и поднял конверт, в котором прощупывалось что-то твёрдое. Он показал находку Борщову, и они решили распечатать конверт. Внутри оказалась фотография. На ней были изображены паренёк, которого только что увезли «мертвечатники», и девушка деревенского вида, повязанная платочком. На оборотной стороне была надпись:
«Пусть это фото напоминает тебе о нашей любви. Нюра». Чуть ниже – другая надпись: «Всегда буду помнить. Алёша».
Борщов взял фото из рук Бочкарёва, положил в конверт и спрятал в грудной карман. Потом, когда вошли в барак, он задумчиво проговорил:
- Вот и останется Нюра со своей любовью. Получается как в песне: он «в степи замёрз и любовь свою унёс».
Они немного помолчали, и, когда подошли к своим местам, Борщов продолжил:
- Ничего она не узнает о его кончине и будет ждать до тех пор, пока не полюбит другого.
Мрачнов сидел на краю нар, смотрел на подходящих Бочкарёва и Борщова. Он, очевидно, слышал концовку их разговора и спросил:
- Кого будет ждать, и кто не полюбит другого?
- Да твоя жена, Федя! Вот ты блукаешь по Германии, а она тебя пождёт, пождёт, да замуж выйдет, - пошутил Борщов.
- Не знаю, не знаю, Алексей Сергеевич, скорее наоборот, - в тон ему ответил Мрачнов.
- И моя жена навряд ли за кого другого пойдёт. Она будет меня ждать всю жизнь, до гробовой доски, - уверенно сказал Борщов.
- Ой ли, Алексей Сергеевич! Ты у неё в голове не был и не знаешь, что она думает. Может, ты со двора, а она себе кого-то другого нашла? – Разуверял его Мрачнов.
- Ну, нет, Федя, ты ошибаешься. У меня жены нет и ей влюбляться не в кого, - засмеялся Борщов, подмигнув Бочкарёву.
Мрачнов недоверчиво покачал головой и сказал:
- Что-то не верится мне, что у тебя не было жены. Ты, вон, Володьку обманывай, а меня не обманешь.
Борщов задумался, и его взгляд ушёл куда-то далеко, сквозь голову Бочкарёва. Помолчав, он глухо проговорил:
- Да, была у меня супруга. Хороший товарищ, верный друг. Но роковая рука смерти развела нас навсегда. Навсегда.
Он полез на нары, и Бочкарёв только хотел последовать за ним, как вошёл Алифанов и прокричал:
- Подъём! – Потом, чуть спустя: - За чаем!
На нарах завозились, стали спрыгивать на пол, застучали колодками об пол, зазвенели котелками, кружками, банками, чашками. Барак загудел от разговоров, криков, брани. Кое-кто натягивал на себя шинели. Бочкарёв разыскал свою чашку и вместе с Мрачновым, у которого в руках было два котелка, пошёл за чаем. Когда они вернулись, Борщов сидел на нарах, по-татарски сложив ноги, и задумчиво копошился у себя в голове, не обращая ни на кого внимания. Мрачнов окликнул его, подавая котелки. Он резко вскинул голову и, как бы недоумевая, посмотрел на него, потом торопливо вскочил и, виновато улыбаясь, принял котелки. Мрачнов с Бочкарёвым забрались на нары, и все вместе стали чаёвничать. Мрачнов спросил:
- Ты о чём так задумался, Алексей Сергеевич? Уж, не о жене ли?
Борщов посмотрел на него, потом вздохнул и сказал:
- Да, о ней…
- А как она умерла у Вас? – Спросил Владимир.
Борщов посмотрел на него так же, как на Мрачнова:
- Не умерла… - убили её…
Мрачнов и Бочкарёв не стали больше ничего спрашивать, понимая, что это только бередит раны, которые ещё не успели зажить. Но Борщову самому не хотелось молчать, и он стал рассказывать о том, как, и при каких обстоятельствах потерял жену.
В день, когда началась война, я был в командировке во Львове, вместе с женой. Всё, для чего приехал, сделал, и на следующий день думали выехать домой. Прихожу в гостиницу и говорю Тасе – своей жене: «Пойдём, прогуляемся по Львову, посмотрим на него в последний раз и завтра тронемся домой». Ну, она обрадовалась: «Сейчас, Алёшенька, соберусь». Она бегает, собирается, а у меня кошки на душе скребут, будто перед какой бедой. Она, очевидно, заметила и спрашивает: «Что с тобой, Алёшенька, уж не болен ли ты?» «Да нет, - говорю, - с чего ты взяла? Здоров, как бык», и стараюсь казаться веселей. Начал ей помогать, мешаться. Она меня гонит, а сама нет-нет, да взглянет пристально не меня. Их ведь, жён-то, не проведёшь. Ну, она собралась, и мы пошли погулять. Сначала зашли в магазин, купили конфет, ещё что-то и пошли к столикам, которые там стояли, завернули в платок, что купили - она не любила эти бабские премудрости в виде кошёлочек и, что ни покупала, всё в платок заворачивала. Ну, вот, завернула она всё, мы вышли из магазина, походили немножко, я и говорю: «Хватит, погуляли, пойдём домой, а то завтра мне ещё в одно место надо зайти». Ну, пришли мы, легли спать. Ночью ничего такого не было, а когда утром проснулся, слышу соседи по номеру шумят. Я встал, вышел в коридор, а там суета. Я спрашиваю: «В чём дело, что за шум?» Швейцар, поляк мне говорит: «Герман на нас идёт. Летаки его были сегодня здесь. Война!» Я к себе в номер, разбудил Тасю и говорю ей: «Немцы на нас напали!» «Когда?» «Да я сам ничего не знаю, сейчас сбегаю в одно место и скажу». Выскочил из гостиницы, а на улице кругом только и слышно: «Война! Война!» Прибежал в Горсовет, а там тоже голову потеряли, шум, гам, ничего не понять. Встречаю одного знакомого, Горынина, спрашиваю: «В чём дело?» Он отвечает: «Всё дело в немцах. Напали на нас без объявления войны. А ты что, не слыхал, как бомбили утром?» «Нет», - говорю. Ну, он убежал по своим делам, а я скорее домой. Только выскочил из Горсовета, сирена гудит. Я сначала не обратил внимания, бегу дальше. Потом слышу гул. Я глянул вверх – мать ты моя милая! А они как вороньё летают. Я, конечно, скорее куда-нибудь спрятаться. Тут дворник, тоже поляк, кричит мне: «Пане, пане! Сюдой! До подвалу!» Я в подвал к нему, а тут и поднялся ад кромешный. Бомбы свистят, рвутся, а в подвале детей, баб до чёрта, орут, молятся: «Матка Боска! Иезус Мария!» Я их уговариваю, а у самого руки трясутся. Ну, отбомбились, улетели. Я вылез из подвала и - в гостиницу. Забегаю в свой номер – Таси там нет. Потом слышу – бежит. Вбегает в номер, а сама ревмя ревёт. Как увидела меня, как бросится на шею и ну целовать и приговаривать: «Живой мой Алёшенька! Живой, живой! А у меня вся душа изболелась за тебя, думала, что нет тебя в живых уже!» Я её успокоил, стали упаковывать чемоданы. Потом наняли лошадь и на вокзал. Приехали, а станция разбомблена, посадка на товарной. Приехали туда, а там народу – миллион. Но всё-таки кое-как погрузились, тронулись, поехали. Отъехали километров десять, а они нас догоняют и как начали лущить! Мы соскакиваем с поезда и в сторону от него. А кругом степь, хоть бы кустик где был. А «мессеры» пикируют и по нам из пулемётов. Мы с Тасей рядом бежали. Один из истребителей спикировал на нас, да как ужалит из пулемёта, мы упали, лежим. Когда самолёт улетел, я вскочил, а Тася не встаёт. Я её за руку взял, кричу: «Вставай! Бежим дальше!» Она молчит. Взглянул на неё, а под ней лужа крови. У меня руки-ноги отнялись. Присел рядом с ней и думаю: «А будь, что будет!» Когда они отбомбились, улетели, я встал, взял свою Тасю на руки и понёс к эшелону, а от него только воспоминания остались. Тогда я положил Тасю в воронку, накрыл плащом и похоронил.
Борщов умолк и уронил голову на руки. Потом, помолчав несколько минут, снова поднял голову и заговорил:
- Когда её похоронил, на душе стало как-то пусто, что-то не хватало, будто вместе с ней я похоронил всё, чем до этого жил. Потом те из пассажиров поезда, кто остался жив, пошли пешком до следующей станции. Я тоже пошёл с ними. Иду, а сам оглядываюсь – мне всё не верится, что я Тасю потерял, что она не будет больше идти рядом. Шёл и оглядывался на её могилу, пока она не скрылась с глаз. – Борщов замолк совсем, лёг навзничь и закрыл глаза.
Бочкарёв хотел его о чём-то спросить, но, встретив взгляд Мрачнова, который глазами дал ему понять, что не надо тревожить Борщова, отвернулся от него. Рядом с Бочкарёвым лежал Пан, который тоже слышал рассказ. Он пододвинулся и зашептал:
- Вовка, ты что ему хотел сказать?
- Забыл.
- Что? – Переспросил Пан.
- Ничего, - ответил Бочкарёв, - он не хотел разговаривать и такими короткими ответами пытался отделаться от Пана.
Но тот был недогадлив и всё лез к нему с разговорами:
- Ты, Вовка, не отбрехивайся, а говори, о чём хотел спросить Алексея Сергеевича!
Владимир взглянул на Пана, как на надоедливую муху, которая жужжит над ухом, и выпалил:
- О том, в каком месте у дяди Ксенофонта мозги находятся – в голове или в заднице!
Пан улыбнулся и спросил:
- Всё сказал?
Бочкарёв буркнул:
- Всё.
- Ну, а теперь облизнись. - Посоветовал ему Пан, а потом, немного помолчав, снова заговорил. - У тебя, Вова, родимчик, наверное, в голове, а?
- Слушай, Пан, какого чёрта ты пристал ко мне? Вякаешь, вякаешь, как баран! Тебе говорят: «Отвяжись!», а ты одно своё. Не до твоей болтовни мне сейчас. Отстань! – Раздражённо отбарабанил Бочкарёв, резко отворачиваясь от Пана и при этом встречаясь глазами с Борщовым, который слышал, как они ругались с Паном.
- Ты чего это, Владимир, разоряешься? Ты что на Пана огрызаешься? Он ведь с тобой по-доброму разговаривает.
Бочкарёву стало стыдно и неудобно перед Борщовым, он повернулся к Пану и сказал:
- Вы, Ксенофонт Осипович, простите меня, чего не бывает.
Пан улыбнулся и проговорил:
- Прощаю, чего уж там. Я ведь на дураков не обижаюсь.
Владимира от этих слов слегка передёрнуло, и он чуть не выпалил в ответ: «Сам ты старый дурак», но сдержался и молча повернулся к Пану спиной. Он понял, что Пан ему так ответил потому, что Бочкарёв назвал его бараном, а долг платежом красен.
Борщов, улыбаясь, заговорил:
- Володя, Володя! Ты как дитя малое. То орёшь, обзываешься почём зря, а чуть что прощения лезешь просить.
Бочкарёв что-то промычал про себя и замолк. Борщов выжидательно посмотрел на него, потом спросил:
- Ты что-то хотел сказать?
- Ничего, так, - буркнул Владимир.
- Э-э, друг, да я вижу, ты и на меня дуешься! – Проговорил Борщов, пододвигаясь к Бочкарёву. – Ты это брось, брат. Обижаться на всех задумал? Брось, это слишком трудное занятие. Ты, может, обижаешься на меня, что я тебя заставил извиниться перед Паном?
- Что Вы, Алексей Сергеевич! Я вообще ни на кого не обижаюсь. У меня такая натура, - оправдывался Владимир, - не принимайте во внимание моё ворчание.
- Почему ты, Бочкарёв такой слабый? Поднапрёшь на тебя, ты уже лезешь с извинениями? – продолжал допытываться Борщов.
- Ошибаетесь, Алексей Сергеевич, я только со своими такой, а посмотрели бы в другой обстановке. Я не из болтливых. Своему можно наговорить всякой чепухи и извиниться, а при других обстоятельствах я больше молчу.
- Молодец, так и надо делать. При ребятах болтай, что на ум взбредёт. Но, когда попадёшься чёрным, лучше язык прикуси. Если придётся невтерпёж, товарищей не выдавай.
- Само-собой разумеется. Иной раз язык бывает твоим врагом, - сказал Бочкарёв.
- Это почему же? – Спросил Борщов.
- Потому. Я однажды сам на себя наплёл, да чуть головой не рассчитался.
- Это как же так «на себя наплёл»? – Полюбопытствовал Борщов.
- Не расскажу.
- Как так, «не расскажу»! Этак не годится. Давай, рассказывай, - потребовал Борщов.
- Нет, Алексей Сергеевич, не расскажу, и не просите даже, - разжигал его любопытство Бочкарёв своим упорством.
- Слушай, Володя, ты ломаешься, как сдобный пряник. Прошу, расскажи, - просил Борщов.
- Ну ладно, расскажу, - согласился Владимир, - это было в детстве.
Однажды ребята стащили у одного проезжего банку конфет и куда-то её спрятали, а свалили всё на меня, наговорив ему, что я страшный вор. Ну, он ко мне, спрашивает: «Вы банку у меня из саней не брали?» Я сдуру: «Взяли». Он меня сгрёб и – в милицию. А те-то знали, какой я есть, отпустили. Как только отпустили, я бегу по улице и ору: «Я взял банку, я взял банку!» Ну, меня опять потащили в милицию, вызвали отца. Что-то там говорили ему, потом он меня забрал и увёл домой. Поругал немножко и всё, зато мать устроила мне баню.
Борщов, Пан и Мрачнов смеялись. Пан, сидя на корточках, тоненько, сквозь смех попискивал. Мрачнов, закрыв глаза руками, качал головой. Борщов смотрел на Бочкарёва и заливался колокольчиком.
Владимир посмотрел на них и тоже засмеялся, а потом спросил:
- Над чем смеётесь? Мне кажется, тут нет ничего смешного.
- Нет есть. Ты же говорил, что чуть не поплатился головой, а фактически поплатился задницей, - сказал Пан.
В это время у дверей началась какая-то возня, потом послышался крик. Все перестали смеяться и прислушались. Крик повторился. Пана разобрало любопытство и он со словами: «Надо посмотреть, что там такое творится» соскочил с нар и побежал узнавать.
Бочкарёв тоже не выдержал, соскочил с нар и пошёл вслед за ним. Подойдя к дверям, он увидели большую толпу людей, которые стояли и смотрели, как шеф кого-то «обрабатывал». Владимир залез на нары, чтобы лучше видеть.
У окна стоял разъярённый шеф с ремнём в руке, который он держал так, чтобы бляха была на весу, и наносил ею удары низкорослому пареньку. Тот прикрывал голову поднятыми вверх руками - она у него была вся в крови. Кровь стекала по волосам, ниспадавшим ему на лицо, капала ему на лицо, бежала к подбородку и на грудь, которая была тоже вся залита кровью. Брюки у паренька были порваны до такой степени, что были похожи на сети, и нисколько не прикрывали наготу.
Бочкарёв обратился к одному из пленных-постоянных, мрачному долговязому парню:
- За что это он его, брат?
- Парень, когда вошёл шеф, попросил его сменить ему брюки и поднял спереди китель так, что весь прибор оказался наружу. А шеф чёрт знает что подумал, начал орать на него, потом стал бить. - Долговязый замолчал, сжал кулаки а потом продолжил: - Сволочи! Знают, что им не дадут сдачи, и распускают руки. Гад! – После этого повысил голос и прогремел: - Не смей бить, гадюка!
Бочкарёв рванул его за рукав, соскочил с нар сам и сдёрнул с них долговязого:
Ты с ума сошёл? Ведь он тебя теперь кончает.
Долговязый, усмехнувшись, ответил:- Обожжётся! Я не тот паренёк, сдачи дам!
Последние слова Владимир еле расслышал из-за поднявшегося шума. Вокруг закричали, затопали ногами, засвистели так, что зазвенело в ушах. Бочкарёв вскочил на нары и увидел, как шеф, трусливо оглядываясь во все стороны, спешил к дверям. Когда дверь за ним захлопнулась, шум понемногу затих, и кто-то сказал:
- Ну, ребята, держись! Это нам даром не пройдёт. Обязательно «Пират» явится со своей сволочью.
«Пиратом» звали начальника гестапо за то, что у него на глазу была повязка, и за усы, которые, как стрелы, смотрели в разные стороны. Он был бичом лагеря, в котором его власть была безраздельна. Обычно «Пират» один не ходил. С ним были адъютант и здоровенный гориллоподобный поляк, выполнявший роль переводчика. Сам «Пират» никого руками не трогал, за него это делали адъютант и переводчик. Ещё он был председателем суда «чёрных».
Когда возбуждение улеглось, некоторые пленные струсили. Они потихоньку стали смываться в другой барак, захватив своё барахло. Их провожали злыми шутками:
- Бегут как крысы с тонущего судна! Эй, пан, туфли в руки возьми, а то растеряешь!
В одном месте пленные умирали со смеху над пареньком, комично разыгрывавшим сцену, как шеф удирал из барака. В другом месте ребята обмывали избитого пленного, который охал и матерился. Потом ему перевязали голову и заставили лечь.
У места Бочкарёва тоже было скопление народа. Некоторые сидели на нарах, другие толпились в проходах. Они слушали Борщова:
- …Вот вам прекрасный пример. Если бы мы не вступились все сразу, он бы его добил. А один или двое тоже бы ничего не сделали, он бы и с ними расправился так же. А когда мы все гуртом зашумели, с него сразу соскочило всё геройство, и он в кусты, как заяц, только и видели. Если мы будем всё время так же дружны, он не посмеет никого тронуть даже пальцем.
Кто-то Борщову возразил:
- Это, конечно, ничего, хорошо. Но последствия для нас будут плохие. Они постараются нас утихомирить.
- Каким образом они нас будут утихомиривать? – Спросил Борщов.
- Образов они много найдут, их ведь власть.
В это время к толпе подбежал с испуганными глазами «Балерина» и сказал:
- «Пират» идёт!
Пленные стали торопливо расходиться по своим местам. Бочкарёв тоже забрался на нары и с головой укрылся шинелью. Когда барак затих, дверь в него открылась, первым вошёл адъютант и скомандовал:
- Аhtung! Аufstehen!
Снова поднялся шум. Пленные соскакивали с нар и становились по стойке «Смирно!» в проходах напротив своих мест. Бочкарёв тоже соскочил с нар и замер рядом с Борщовым и Паном.
В барак вошёл «Пират», вслед за ним поляк-переводчик. «Пират» стремительно метнулся по проходу, пытаясь каждому пленному взглянуть в лицо своим единственным глазом. Обойдя весь барак, он вернулся к двери и что-то сказал переводчику. Тот зычно крикнул на весь барак:
- Выходите все на улицу.
«Пират» со своими подручными вышел из барака. Пленные толпой двинулись к дверям и тоже стали выходить во двор. Когда все вышли и построились, «Пират» стал что-то говорить переводчику, который, подобострастно изогнувшись, выслушал его и обратился к строю:
- Если вы сейчас не скажете, кто у вас поднял смуту, не выдадите главных смутьянов и подстрекателей к тому, чтобы убить вашего шефа, то весь барак останется на два дня безо всякой пищи и воды!
В строю поднялся шум, перешедший в крики, которые раздавались со всех сторон. «Пират» хищно изогнулся и что-то резко сказал переводчику.
- Молчать, или всем найдём дорогу! – Прогремел переводчик.
Шум сразу прекратился, и в строю стало тихо.
- Ещё раз спрашиваю: кто зачинщик безобразия? – Снова спросил переводчик и выжидательно осмотрел строй.
Из строя не раздалось не звука. Тогда «Пират» пошёл вдоль строя, шаря по нему глазом, дошёл до паренька, избитого шефом, стоявшего с забинтованной головой, остановился напротив него и что-то спросил по-немецки. Паренёк ответил:
- Я ничего не понимаю по-немецки.
«Пират» презрительно обвёл его глазом и что-то сказал адьютанту. Тот схватил паренька за шиворот и вырвал его из строя. Потом они вдвоём с переводчиком потащили его к воротам блока и отдали под надзор часового. Они вернулись назад и «Пират» что-то сказал им. Они стали ходить вдоль строя и считать людей. Каждый двадцатый выходил и шёл к воротам. Когда всех пересчитали и увели каждого двадцатого, переводчик скомандовал оставшимся идти в барак. Пленные с угрюмыми лицами стали расходиться. В это время над притихшим блоком пронёсся чей-то тонкий голос:
- Прощайте, друзья! Может, мы не вернёмся!
Все остановились и обернулись к обречённым. Потом по толпе прошёл глухой ропот, она развернулась, и люди пошли к воротам блока. «Пират», который уже подходил к воротам, обернулся и, увидев, что пленные, вместо того, чтобы идти в барак, идут вслед за ним, вынул из кармана свисток и поднёс его к губам. Резкий свист пронёсся над лагерем, у ворот отозвался второй, и через несколько минут из-за кухни вывернулись человек десять охранников с винтовками. Пленные разом отхлынули от ворот и стали разбегаться по баракам. Обречённые использовали ситуацию, тоже рванулись за всеми, толпа смешалась. Часовой, увидев, что люди, отданные ему под надзор, разбегаются, закричал:
- Halt! Halt!
Пока шла суета у ворот, успевшие забежать в барак метались из одного угла в другой, пытаясь спрятаться. Бочкарёв поддался общей панике и тоже бегал по бараку. Пробегая мимо своего места, он увидел, что Пан, Борщов и Мрачнов спокойно сидят на нарах, наблюдая за окружающим, как посторонние зрители. Пан, увидев ошалевшего Бочкарёва, закричал ему:
- Вовка! Беги сюда скорее, я тебя в карман спрячу!
Владимир остановился. Ему стало стыдно перед друзьями за свой страх, он залез на нары и уселся рядом с ними.
- Зря ты, Бочкарёв, бегал. Ну, где бы ты мог спрятаться? – Начал его воспитывать Пан. – Только бы хуже себе сделал, если б нашли.
- Отстань! Не до тебя! И так всего колотит, не до твоих нравоучений! – Отбрыкивался Бочкарёв.
В барак ворвались охранники и, ни слова не говоря, стали лупить прикладами всех, кто попадался им на пути. Отовсюду послышались крики и стоны. Пленные стали выскакивать из барака, но тут же возвращались обратно с ошалевшими от ужаса и боли глазами – у многих по лицам бежала кровь.
А один вошёл, как-то странно разводя руками, шатаясь и хватая широко раскрытым ртом воздух. Он как слепой налетал на стойки нар, отталкивался от них и, также протягивая вперёд руки и разводя их в стороны, шёл дальше. К нему подскочил охранник и молча стукнул его прикладом между лопаток. Пленный споткнулся и с вытянутыми вперёд руками растянулся на полу.
Один из охранников поравнялся с тем местом, где сидели друзья Бочкарёва. Он остановился и выкатил на них выпуклые глаза. Потом подскочил вплотную к нарам и прикладом винтовки ударил сидевшего к нему ближе всех Пана. Тот сначала вскрикнул от боли, а потом обматерил охранника. Тот снова замахнулся на Пана, но вдруг опустил винтовку, уставился не него и спросил:
- Was ist das?
- Х… те в глаз! Какого чёрта толкаешься, что мы тебе - мячики? Свинья пучеглазая! – Злобно сверкая глазами на охранника, кричал Пан.
Охранник, привыкший к тому, что все пленные в основном безропотно переносят побои, в крайнем случае, бегут, ошалел от такой дерзости. Потом опомнился, зашипел сквозь зубы польские ругательства и заклацал затвором. Все, кто сидел на нарах, разом вскочили и бросились врассыпную. Бочкарёв спрыгнул по другую сторону нар и побежал по проходу к задним дверям. В это время прогремел выстрел, особенно громкий в большом помещении барака. Владимир инстинктивно пригнулся и выскочил из двери.
Снаружи никого не было. Он помчался в кипятильню. Не добегая до неё, услышал внутри какую-то возню и стон. Он круто вильнул и заскочил в уборную. Там никого не было. Доска, которая прикрывала лаз в третий блок, была оторвана и одним концом лежала на полу. Наверное, пленные, которые убежали в третий бок, забыли закрыть лазейку за собой.
Бочкарёв закинул одну ногу в лаз и только хотел просунуться в неё весь, как услышал осторожные крадущиеся шаги. Он высунул голову и увидел, как вдоль стены к нему шли шеф третьего блока и Мурзин – здоровенный рябоватый детина с пришибленным носом, бывший полицай, который был в этом блоке правой рукой шефа. Они, очевидно, хотели схватить Бочкарёва. Увидев, что он их заметил, Мурзин рванулся вперёд и ухватил Владимира за ногу. Тот закричал от испуга и хотел вырваться, но Мурзин держал его крепко. Тогда Бочкарёв изловчился и ударил Мурзина ногой ниже пояса. От боли и неожиданности Мурзин охнул, схватился руками ниже живота и выпустил Бочкарёва, который выскочил из лазейки, потеряв колодку с левой ноги, и побежал вон из уборной. Шеф что-то кричал вслед, а Владимир сломя голову нёсся к бараку.
Влетев в барак, он сразу же почувствовал недобрую тишину. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что все пленные выстроены в проходе и раздеваются. Бочкарёв юркнул на нижние нары и ползком добрался до своего места. Он встал в строй, растолкав своих соседей, и стал слушать то, что переводил поляк:
- …Итак, повторяю. Вам не выдадут одежду и питание до тех пор, пока вы не выдадите зачинщиков безобразий, происходивших в вашем бараке. – Он кончил говорить и прислушался, не скажет ли кто что-нибудь.
Но вокруг стояла гробовая тишина, нарушаемая только вознёй раздевающихся людей. Вдоль строя ходил «Пират», пристально вглядываясь в каждого, как бы желая прожечь человека насквозь своим одним глазом. Поравнявшись с Бочкарёвым, он стал смотреть на его соседа, того, долговязого, который посмел осадить шефа, избивавшего пленного.
«Пират» оглянулся на переводчика, стоявшего у противоположного конца строя, и кивком головы подозвал его. Поляк тяжёлой трусцой подбежал к нему. «Пират» вполголоса сказал ему что-то по-немецки, указав глазом на долговязого, после чего поляк сказал долговязому:
- Не раздевайся, - и обернувшись к выходу, что-то крикнул по-немецки.
Тут же к нему подошли два охранника и он сказал по-русски, указав на долговязого:
- Возьмите его, он должно быть старший.
Сказано это было довольно громко, чтобы слышали все. Долговязый побледнел, но всё же спокойно застегнул шинель на все крючки и сам вышел из строя. Он встал между двух конвойных, оглядел весь строй и сказал:
- Не поминайте лихом, хлопцы…
Он хотел добавить ещё что-то, но небольшой толстенький конвойный с усами, которые у него смешно топорщились, как у кота, ударил долговязого прикладом в спину и скомандовал:
- Коmmеn! Vorwerts!
Таким образом «Пират» отобрал ещё человек пятнадцать. Они проходили вдоль строя, и каждый что-нибудь говорил. Некоторые шли, понуро опустив голову, и смотрели в пол. Кто-то беззвучно плакал, и слёзы бежали по их щекам, оставляя грязный след.
Когда оставшиеся пленные разделись, оставшись в одном нижнем белье, у кого оно было, всем скомандовали разойтись по местам, а обречённых нагрузили снятым барахлом и увели.
Несколько минут в бараке стояла тяжёлая тишина, которая неожиданно нарушилась сильным рыданием, раздавшимся со стороны чёрного хода. Человек плакал так страшно, как не плачет никто. Он захлёбывался, потом выл истошно и долго, потом начинал стонать. На него со всех сторон закричали:
- Перестань, мать твою, что разошёлся, как на похоронах?
- Заткнись, и без тебя тошно…
- Ну, чаво ревёшь белугою? Ну, чаво? Чаво ухаешь, как филин к несчастью, бяду накликиваешь?
- Перестаньте, что к человеку пристали? Слезьте, идите и посмотрите, тогда «чавокайте»! – Прозвучал чей-то резкий голос. – Человек свои глаза оплакивает. Ослеп человек, а они орут!
Последние слова словно сдули всех с нар. Пленные столпились возле чёрного хода и на кого-то смотрели. В толпе изредка кто-то говорил:
- Глядите, он и правда ничего не видит, тычется во все стороны!
В другом конце барака благообразного вида пленный с ласковыми голубыми глазами, лет около шестидесяти на вид, сокрушённо качая головой, говорил:
- Эх, пропал парень ни за грош. Ну, куда ему, слепому? Тут и зрячему не выжить, а ему верная погибель!
На него сзади ястребом насел Пан, который был в одном нижнем белье смешной – одна штанина совсем отсутствовала, другая тесёмками волочилась по земле. Рубашка у него была на манер кофты спереди кое-как зашита чёрными нитками.
- Чего ты, старый хрен, его раньше времени хоронишь? Смотри сам вперёд не сдохни! Я ему не дам погибнуть и баста! – Он стал решительно пробивать себе дорогу и исчез в толпе.
Все стали смеяться над Паном:
- Смотри-ка, благодетель выискался, полубесштанный! Видишь ли, он не даст ему погибнуть, ангел выискался! – Всё с тем же ласковым видом, улыбаясь, говорил благообразный.
У Бочкарёва в сердце зашевелилась злоба на старика – и ласковый взгляд, и благообразную внешность, и эту чистенькую, ловко сидящую нижнюю рубашку, и кальсоны, аккуратно завязанные у щиколоток тесёмочками – сразу всё он возненавидел. Когда ласковый взгляд старика остановился на нём, Владимир злобно взглянул на благообразного, выматерился, повернулся и пошёл к себе на нары. Старик оторопело поглядел ему вслед и недоумевающее пожал плечами.
Бочкарёв стремительно шлёпал босыми ногами по полу и думал, из-за чего же он взбеленился на старика? Потом остановился и вспомнил – точно такой же был один конвойный в гестапо, с ласковым взглядом и благообразной внешностью. И взгляд, и внешность – всё было обманчиво, как маска. На самом деле в гестапо он был палачом.
Владимир не заметил и вздрогнул, когда к нему бесшумно подошёл Борщов и тронул его за плечо:
- Ты чего это руганул его так, а?
- Ненавижу таких благообразных, с медоточивыми глазками и ласковым голосом! Они хуже самого грубого мужлана, не знаешь, с какой стороны укусят, - возбуждённо заговорил Бочкарёв, - вид у них, знаешь ли, ласковый, милый, а в самом деле он может быть хуже всякой змеи. Да и со змеёй их сравнить нельзя – она сначала зашипит, а потом укусит. А этот укусит без предупреждения. Вообще я таких ненавижу…
- Ну и что ж! Да чёрт с ним и с его ласковыми глазами. - Сказал Борщов.
– А ты, брат, так не лайся за каждым разом. Не обращай на таких внимания, их до чёрта… Пойдём, обед скоро.
Скоро обед…
А это значит, что ещё одни сутки прожиты, и ты опять заслужил котелок баланды, которая даст надежду на то, что твой организм ещё выдержит определённое время и ты проживёшь ещё одни сутки, если, конечно не попадёшь под горячую руку какому-нибудь охраннику, шефу, «Пирату», его подручным, и они тебя не забьют до смерти, или тебя не свалит с ног какая-нибудь внезапная болезнь…
Сколько таких суток ещё оставалось выдержать и стоит ли это делать, не ведал никто, в том числе Борщов.
НЕТ ВЫХОДА ИЗ АДА
Шестого марта 1944 года эшелон с узниками переехал франко-германскую границу и девятого марта был на месте. Состав перевели на запасной путь, после чего приступили к выгрузке заключённых. Их построили в колонны и погнали в лагерь, располагавшийся в старой крепости с наполовину развалившимися стенами. Там, где стены были разрушены основательно, в несколько рядов была натянута колючая проволока. Через массивные ворота узников ввели в крепость.
Вначале, как было принято во всех лагерях, их повели в баню, а потом поместили в карантинный барак. Бараки были кирпичные, с двухярусными деревянными нарами внутри. В течение двух дней узников не кормили совсем, на третий день дали обед, но в таком количестве, что даже ребёнку будет мало. Только на четвёртый день их поставили на так называемый «лагерный паёк» и утром выдали «мучной суп», представлявший из себя какую-то мутную бурду, в которой кое-где попадались липкие комочки из теста. В обед они получили по 300 грамм хлеба, 10 грамм масла, 20 грамм свекольного повидла и гороховый суп, вернее - суп из гороховой кожицы.
Вечером, около семи часов, пришли вербовщики. Бочкарёва с узником по фамилии Григорьев и ещё человек десять взял один штатский, в очках, в шляпе и с тросточкой, толстый и круглый, как бочонок. Эту группу узников из барака повели к продуктово-вещевому складу. Там выдали паёк на одни сутки, сменную пару белья и вывели за ворота лагеря, где уже стоял грузовик с сидевшими в нём двумя конвоирами-французами. Открыли задний борт, скинули сходни, пленные по ним взошли в машину и сели на скамейки. Покупатель зачем-то сходил в контору лагеря, вернулся, сел в машину, потом почему-то снова вышел из неё, что-то сказал конвоирам, сел снова и машина поехала по асфальтированной дороге, вдоль обочины которой росли деревья.
Владимиру ехать было интересно. Во Франции дороги ему показались красивее, чем в Германии. Домики, попадавшиеся по пути, были аккуратные, сплошь обвитые различными цветами. Возле каждого росли фруктовые сады и разноцветные клумбы. В центре утопающих в садах деревень возвышались величественные кирхи. По дороге часто встречались крестьяне, проезжавшие на массивных рослых лошадях, запряжённых в неуклюжие повозки.
Пленные затеяли разговор с конвоирами. Французы оказались парнями хорошими, разговорчивыми. Из-за незнания языков общение проходило в основном с помощью жестов. На вопрос, куда пленных везут, конвоиры ответили: «Дус Фриц». «Сколько километров?» - «Триста». «Какие работы?» - «Оборона». Пленные поняли, что попали на трудную работу. «Как кормят?» Конвоир плюнул и растёр ногой, что значило: «Очень плохо». После этого всю дорогу ехали молча. У каждого в голове была только одна мысль: «Как там будет, на новом месте?»
На место прибыли на третий день утром. Это была маленькая деревенька с двумя десятками дворов. В полукилометре от неё, на высоком холме стоял замок. Грузовик поднялся на холм и остановился. Через низкие ворота пленных ввели во двор замка, мощёный каменными плитами. Во дворе стояло несколько немецких солдат и десятка два раздетых до нижнего белья пленных. Их проверяли на вшивость.
К вновь прибывшим подошёл немецкий унтер и приказал сложить вещи и снять верхнюю одежду. Пленные всё это выполнили. Унтер подвёл их к другому немецкому солдату и приказал тому отвести пленных в девяносто четвёртую команду. Пленные собрали вещи, то есть вторую пару белья, перевязанную бечёвкой, котелки из консервных банок, зарегистрировались в конторе и пошли за немцем в то помещение, в которое их определили.
В помещении были оборудованы нары вагонной системы и большой шкаф для посуды и продуктов. Мест на нарах было двенадцать. Десять было уже занято, и Бочкарёв с Григорьевым заняли два свободных. Немец, оставив всех в комнате, вышел, и через некоторое время пришёл с унтером. Унтер, посмотрев, что мест не хватает, увёл остальных пленных. Людей, кому принадлежали занятые на нарах места, в помещении не было.
Вечером, часов в шесть, к замку стали подходить машины, привозившие пленных с работы. Бочкарёв и Григорьев лежали на нарах и разговаривали, пока не услышали стук колодок в коридоре. Вошедшие с шумом окружили их и посыпались вопросы: «С каких областей?», «Когда попали в плен?», «Что новенького на Родине?», «Какие успехи на фронтах?» и «Скоро ли наши разгромят немцев и кончится война?». После того, как все вопросы кончились, постоянные постояльцы взяли котелки, в том числе и вновь прибывших, и пошли получать обед и ужин. После ужина все уселись у камина, и разговоры продолжилось.
Вначале Бочкарёву с Григорьевым немного рассказали о компании, в которой им придётся работать, и только потом стали знакомиться. Группа была разношёрстная: поляк Владислав Балицкий, здоровенный детина, широколицый, в веснушках; Сима Щепетков, маленький, вёрткий, как обезьяна, с большими серыми глазами; Пётр Гравер; Алексей Нефёдов; Сергей Кречет; Валя Рыжий; Сергей Куприн; Гнат Живоног; Глеб Лихой; Жорж Ловиц. Только успели познакомиться, как вошёл охранник и погасил свет со словами: «Аlles! Schlafen!» Наутро, часов в пять, вошёл он же и прокричал: «Аufstechen!».
Пленные встали, быстро умылись и побежали получать одежду, которую у них отобрали после отбоя. После этого их строем повели получать пищу. После завтрака пленных выгнали во двор и начали распределять по работам. Подошли охранники и группами выводили пленных из замка, где у ворот их уже ждали грузовики, крытые тентами. В каждую машину сажали по 25 человек и наглухо закрывали задний полог.
Через час пленных подвезли к большой горе, из которой добывали белый камень и выжигали из него известь. Вечером снова пришли машины и их повезли обратно в замок. Так прошло полтора месяца. Работа была очень трудная и не соответствовала тому скудному рациону питания, которым пленных обеспечивали. Все их мысли, как и во время содержания в концлагерях, были только о еде. И эти мысли, по оценке Владимира, приближали человека к состоянию животного.
Однажды вечером во время очередного сидения у камина зашёл разговор о побегах из плена. Балицкий рассказал, как несколько его товарищей убежали из поезда во время их транспортировки во Францию:
- Дело было ночью. Я лежал возле двери вагона и разговаривал со своим соседом. Потом задремал и стал засыпать. Вдруг, слышу выстрел, за ним второй. Поезд, сбавив ход, остановился. Вдоль эшелона забегали немцы. Постояв с полчаса, состав тронулся. На следующий день утром мы узнали, что из соседнего вагона через пролом в полу вагона убежало шесть человек.
Нефёдов вспомнил о побеге заключённых из концлагеря в Восточной Пруссии, где он содержался.
Историй о побегах накопилось предостаточно, они всех увлекали, настраивали на подготовку к собственному побегу и поиск возможностей.
С места работ, по общему мнению, убежать было нельзя. Через окно – тоже: по двору ходит часовой. В первый день никто ничего не решил.
На третий день Щепетков объявил:
- У меня такая мысль: в нашем камине труба относительно широкая. Надо сделать разведку и проверить. Может, этим путём и воспользуемся?
Его слова были встречены смехом и шутками:
- Полезешь в трубу, а задница застрянет, придётся тащить обратно! - Но всё досконально обдумав и обсудив, заглянув в трубу, нашли предложение разумным.
На следующий день камин не топили, чтобы не накаливать, и вечером, когда прошла проверка и пленных заперли на ночь, провели разведку. В камин полез Щепетков, как самый маленький. Он легко пролез до самой крыши и даже, как он сказал, немного по ней погулял. По его мнению, пролезть через трубу сможет каждый из присутствующих. Щепетков был похож на негра, поэтому всю одежду с него сняли, сожгли и, согрев воду, вымыли его самого. Потом стали советоваться, что предпринять дальше. Без продуктов бежать было нельзя. Надо хотя бы немного провизии на первое время – ситуация могла быть непредсказуемой. Поэтому решили понемногу оставлять еды от пайков и прятать её.
На следующий день к пленным подселили ещё одного узника, тринадцатого. Его размесили на топчане возле камина, так как у новичка болели ноги. Он не мог выполнять тяжёлую работу и вместе с такими же, как он, был назначен на обслуживающий труд, включавший в себя, в основном, уборку помещений и двора замка. Поначалу все опасались новичка, но, узнав его поближе, рассказали ему о своих планах и получили его согласие бежать вместе с нами. Он стал тоже готовиться к побегу. Решили отметить Первое мая, а четвёртого бежать. Приготовления к этому дню шли в тайне от пленных, содержавшихся в других помещениях. Участники готовившегося побега дали друг другу клятву, не говорить о нём никому постороннему.
Из тщательно скрученных в верёвки различных тряпичных обрывков – кто оторвёт кромку от шинели, кто достанет лишние обмотки, кто снимет лямку от вещмешка – была связана небольшая верёвочная лестница.
Четвёртого мая, как обычно, пленных привезли с работы, выдали паёк и заперли по комнатам. В девять прошла проверка. Когда замок притих, они уже были готовы к побегу. Но неожиданно, в самый последний момент, перед выходом, новичок сказал:
- Ребята, мне видно не бежать…
- Как это не бежать, ты что, струсил?
- Нет, - сказал он, - я не трус. Вы меня неправильно поняли – я не хочу быть для вас обузой. Вы же сами видите: мои ноги никуда не годны, и в пути я буду только мешать, задерживать.
Пловец я тоже никудышный. Перспективы у меня одинаковые, ничего хорошего – что идти с вами, что остаться здесь. В общем, я отказываюсь идти.
Беглецам ничего не оставалось делать, как согласиться с его доводами и каждый перед выходом подходил к нему и крепко жал товарищу руку.
Бочкарёв шёл замыкающим. Ему сверху сбросили бечёвку, он сначала привязал к ней лестницу и дёрнул. Лестницу вытащили. После этого с сильно забившимся сердцем он полез наверх сам.
Потихоньку, чтобы не шуметь, беглецы поползли по крыше к стене замка, которая маленьким навесом соединялась с крышей. Внезапно из-под чьей-то ноги выскользнула черепица, сползла по перекрытию и, упав вниз, звонко ударилась о камни двора. Беглецы притихли и лежали, не смея пошевелиться, минут десять.
Когда стало ясно, что никакой тревоги это не вызвало, они подползли к стене. По её верху была натянута колючая проволока, но не стоило никакого труда её преодолеть.
Но когда беглецы добрались до стены и глянули вниз, первой мыслью у них было то, что все их надежды на побег были напрасными – у подножия стены ходил часовой. Он проходил прямо под ними, заворачивал за угол, потом, спустя некоторое время, появлялся из-за другого угла, делая круги вокруг замка. Однако, времени между тем, как он скрывался за углом и появлялся снова, было достаточно, чтобы успеть спрыгнуть со стены и скатиться с холма, что и сделали.
Бочкарёв прыгал последним, прижимая к груди неиспользованную верёвочную лестницу, поэтому приземлился неудобно, ушиб руку, ногу и бок. Но, превозмогая боль, скатился с холма, добрался до своих товарищей и отдал им лестницу. Беглецы поползли по дну рва, который привёл их к полуразрушенному каменному мосту.
Под мостом они нашли большую пещеру, которую сначала не увидели, но потом заметил Нефёдов, отойдя по нужде. Пещера уходила под землю под небольшим наклоном поперёк рва. Беглецы влезли в неё. Внутри было сыро и холодно, с потолка капала вода. Чтобы не замочиться, сидеть приходилось на корточках.
Рука, нога и бок у Бочкарёва по-прежнему болели, поэтому он попросил обратно лестницу, положил её под себя и сел на неё.
- Надо сделать разведку пещеры, - сказал Щепетков, - какая она дальше…
- Лезь, Щепетков, тебе не привыкать, в трубу лазил… - начали подзадоривать ребята.
- А что, не полезу? Полезу, - запетушился он и полез вглубь пещеры.
Через некоторое время прозвучал голос:
- Тут не так сыро… Тут шире… На полу, кажется, песок… - Потом он ненадолго примолк, видимо ощупывая пол и стены руками, и снова продолжил: - Стены-то - то ли каменные, то ли бетонные, не пойму…
Несколько времени он опять шёл молча, потом вдруг как закричит:
- Ребята! Выручай!
Все бросились к нему на помощь. Нефёдов, держась за руку Балицкого, чтобы в случае чего не попасть туда, куда попал Щепетков, осторожно ступая, двинулся на голос.
- Где ты? – Спросил он.
И почти из-под его ног прозвучал голос Щепеткова:
- Осторожно, а то свалишься!
- Давай руку! – Скомандовал Нефёдов.
- На! – Не то сквозь слёзы, не то сквозь смех послышался ответ.
Нефёдов нагнулся и вместо рук нащупал ноги и стал за них тянуть. Но Щепетков схватил его за руки, выдернул из них ноги и вылез сам. Оказывается, он сидел в яме, растерялся от неожиданности падения, поэтому закричал о помощи. Его отругали за шум:
- Орёт, словно в пропасть валится!
Потом все присели, кто - где стоял. В этой части пещеры было просторней, потолок был выше, поэтому можно было стоять чуть пригнувшись. Бочкарёв опять подложил под себя лестницу, хотел как-нибудь улечься на ней, но ничего не выходило – спина и голова на лестнице, а ноги на холодном песке. Пришлось примириться с тем, чтобы голова была чуть ниже, а поясница чуть приподнята на лестнице.
Проснулся он от толчка. Вскочил – темно, ничего не видно, холодно, замёрз. Не сразу вспомнил, где находится, но потом сообразил и снова опустился на пол. Протянув ноги, коснулся чьей-то головы и тут же услышал голос Жоржа Ловица, вначале обозвавшего его скотиной, а потом спросившего:
- Кто это?
Бочкарёв отозвался.
- А, это ты, Володька! Что ж ты мне всё в морду своими ногами тычешь?
- У меня на них глаз нету, - ответил Бочкарёв, устраиваясь поудобней, - да и темно. Да и ты хорош – лёг чуть ли не на ноги мне.
Они решили лечь спиной друг к другу, стало значительно теплее, и они снова заснули. Спустя некоторое время Бочкарёв опять проснулся – кто-то дёргал его за волосы, а потом шёпотом спросил, протянув ему руку:
- Тише… Кто это? Володя? Иди за мной. – По отсутствию на правой руке большого пальца Бочкарёв узнал Нефёдова.
– Кто это рядом с тобой?
- Жорка.
- Ну а мы ищем его кругом! Жорка, вставай, пошли!
- Куда? Зачем? Темно ведь ещё! – Бормотал Жорка спросонья.
- Тише… Идите за мной… - Настойчиво шептал Нефёдов и пошёл вперёд.
Бочкарёв, собрав лестницу в охапку, тронулся за ним. Через несколько минут Нефёдов остановился и остановил всех. Вокруг слышался тихий говор и смех.
Потом кто-то спросил:
- Пришёл ли Нефёдов с остальными?
- Пришёл.
И беглецы в первый раз после того, как покинули лагерь, стали совещаться. Решили пока оставаться в пещере и по очереди дежурить у входа неё. На случай тревоги установили сигнал – шипение змеи, передаваемый по цепочке. После этого сигнала все должны уходить вглубь пещеры. Отбой тревоги – тихий свист. Те продукты, которые были, договорились расходовать экономней. Выбрали старших – Балицкого и Лихого, и все продукты отдали им на хранение. Выслали дежурного к входу, а сами расположились на таком расстоянии, чтобы на случай тревоги можно было принимать и передавать сигналы друг другу. Бочкарёв разостлал лестницу и лёг. Но спать не хотелось.
Вспомнился дом. Как там сейчас его мама, бабушка, дедушка, другие родственники? В этот момент они все показались Владимиру близкими, а окружающее – кошмарным сном, который вот-вот пройдёт, и он вновь увидит свою деревню, своих родных и друзей. Спохватившись, чтобы не расслабляться (неизвестно, чем ещё закончится этот очередной побег) Бочкарёв попытался взять себя в руки и отогнать воспоминания.
Ему в помощь, прерывая мысли о доме, под чьими-то ногами заскрипел песок. Владимир посторонился, чтобы дать дорогу проходящему, но тот остановился и стал его ощупывать:
- Кто это?
- А ты кто?
- Я Рыжий.
Бочкарёв назвал себя, они уселись рядом и разговорились.
- Ты откуда, Валя, будешь? –спросил Владимир.
- Из-под Тамбова, а что?
- Да так, просто поинтересовался. А отец с матерью у тебя есть?
- Есть. Отец, мать, жена и двое ребятишек. Один уже ходит в школу, а другому ещё годов пять было, когда я на фронт уходил.
- А что у вас, колхоз или совхоз?
- Колхоз. «Заря Победы». От нас на выставку быка отправили. Ох и бык! Огромный, подбородок до земли свисает, в жизни такого не видел. У нас пчельник, сад – целый гектар. Дома под окном тоже был сад. Весной в эту пору цветёт. Птички поют! Душа радуется. Бывало утром встанешь, откроешь окно, а тебя воздухом, будто духами, обдаёт. Дышать любо-дорого. Ну а у вас в Башкирии, есть сады? – В свою очередь спросил он Бочкарёва.
- У нас? Какие сады у нас? У нас степь да холмы, да овраги, да горы вдали. От нашей деревни река Урал недалеко, там есть лес. Бывало, в выходной народ соберётся, выпросит машину у директора совхоза, и на Урал. Отдыхают – рыбу ловят, купаются, а вечером обратно… - Но закончить не успел: послышались шипение, а после него шум шагов нескольких пар ног.
Рыжий вскочил и передал сигнал дальше. Бочкарёв встал, поднял лестницу и они пошли. Их вскоре догнали и кто-то толкнул Владимира в спину, зашипев:
- Быстрей!
Он прибавил шаг, в свою очередь тоже кого-то догнал и поторопил, чтобы тот шёл быстрее. Дойдя до места, где совещались в первый раз, остановились. Дежурный доложил старшим, что услышал шаги по направлению к норе, поэтому дал сигнал. Решили проверить, и Балицкий с Лихим и дежурным ушли. Остальные остались ждать их возвращения.
Прежде чем старшие с дежурным вернулись, прошла, казалось, вечность.
- Ребята! – Шёпотом сказал Балицкий. – У входа действительно кто-то ходит. Соблюдайте тишину. Не кашлять, не чихать. Сейчас выдадим понемногу хлеба.
Все прижались к одной стене, и он стал всех обходить, спрашивая у каждого фамилию, выдавая грамм по 200 хлеба и по глотку воды из фляжки. Съев свой хлеб, беглецы сели на корточки там, где кто стоял.
Через некоторое время Лихой направился к входу, послушал. Было тихо. Выслали очередного дежурного, а сами расположились по пещере в прежнем порядке. Старшие меняли дежурных в том порядке, в каком все сидели. Все должны были им беспрекословно подчиняться.
Наступила и очередь Бочкарёва. Сменял он Щепеткова. Тот провёл инструктаж: находиться надо было метрах в пяти от входа и прислушиваться к звукам снаружи.
На улице было светло. В кустах напротив кричали какие-то птицы. В пещере было тихо, но малейший звук – будь то скрип песка, лёгкий кашель, шёпот – в ней был слышен далеко. Владимир лежал на траве, которую нарвали и подстелили дежурные из ночной смены, и изучал все шумы, раздававшиеся снаружи.
Вначале кроме крика птиц он ничего не слышал. Потом стал различать какой-то ровный гул, не усиливающийся и не уменьшавшийся. Иногда ревела корова, которая, по-видимому, паслась недалеко на поляне около замка. От напряжения у Бочкарёва заболела голова, но время дежурства пролетело незаметно, и смена пришла быстро.
За три дня, которые беглецы провели в пещере, Владимиру приходилось шесть раз выходить на дежурство, и каждый раз он слышал тот же самый гул, как и в первый раз.
С шестого дежурства его снял Лихой и повёл вглубь пещеры. Там все уже были в сборе. Ответственные раздали остатки хлеба. Бочкарёву объявили, что принято решение двигаться дальше.
Когда стемнело, стали выходить из пещеры. Лестницу Владимир бросил. У выхода разделились по три человека. Бочкарёв попал в группу, где были Балицкий и Григорьев.
Беглецы стали осторожно выбираться изо рва. Было темно, и только звёзды мерцали в вышине, да в домиках деревни горел свет. Определившись, где восток, группа за группой преодолели открытую поляну между замком и деревней и вошли в небольшой лесок. Пройдя по нему с полкилометра снова вышли на открытое место.
Вдруг трое, шедшие впереди, резко упали на землю и быстро стали отползать назад. Остальные прекратили движение и подождали. Оказалось, что первая группа заметила человека, который стоял и махал руками, будто делал кому-то знаки, возможно, заметив беглецов. Тихо ретировавшись в лес, дождались, пока соберутся все, и решили взять немного в сторону, но предварительно сделать разведку. В разведку пошли Бочкарёв и Щепетков.
Они осторожно поползли к опушке. На краю леса остановились и стали осматривать поле. Точно! Недалеко от них качался и крутился какой-то человек с растопыренными руками. Затаив дыхание, разведчики некоторое время наблюдали. Наконец, их взяло сомнение, человек ли это. Щепетков вызвался проверить, и пополз вперёд. Добравшись до незнакомца, он встал с ним рядом и с тихим смехом позвал Владимира. Оказалось, это было обыкновенное чучело, одетое в тряпьё и шляпу, раскачиваемые ветром. Его раздели. Бочкарёв взял себе шляпу и штаны, а Щепетков – пальто с одним рукавом, больше похожее на балахон, и разодранный мешок, который был набит сухой травой и заменял чучелу туловище. Напялив всё это на себя, они направились к остальным и, сговорясь, вышли к ним неожиданно, отчего все испугались и быстро вскочили. После небольшой перебранки по поводу этой шалости двинулись дальше, снова разбившись по три.
Пройдя поле, вышли к реке, сели в кустарнике на берегу, послав вверх и вниз по течению реки по одному разведчику. Примерно через полчаса один вернулся. Оказалось, что вверх по реке есть мост. Он освещается и по нему кто-то ходит, наверное, часовой. Ещё минут через двадцать пришёл второй и доложил, что вниз по течению поблизости нет ни моста, ни переправы.
Посовещавшись, решили преодолеть реку вплавь. Спустившись к реке, потрогали воду, она была сильно холодная, и каждый, коснувшись её, вздрагивал. Но, иного выхода не было. Старшие первыми вошли в воду, остальные - следом.
Течение было быстрое и пловцов стало сносить вниз. Бочкарёв грёб руками изо всех сил, стремясь преодолеть течение, но не получалось. Рядом плыл Щепетков и, изредка подплывая к нему, спрашивал:
- Плывём?
- Плыву, - отвечал Владимир, - где пальто?
- На спине.
Подплывая к берегу, они услышали какой-то плеск, похожий на то, как полоскают бельё, и насторожились, стараясь шлёпать по воде как можно тише. Но приглушённый свист рассеял их опасения и они поплыли на это звук.
На берегу все уже были в сборе и беглецы двинулись дальше. Пройдя луг, который простирался от берега километра на два, снова вышли в небольшой лесок.
Вдруг первая группа, которая уже было скрылась за кустами, выскочила обратно, чуть не наткнувшись на стоявший за кустами дом. Беглецы решили его обойти, но надо было искать укрытие – начинало светать. Звёзды на небе уже погасли и один его край, к востоку, начинал розоветь. В глубине леска они нашли глубокий лог и здесь решили остановиться на днёвку. Назначив очередного дежурного, все рассыпались по кустам.
Бочкарёв тоже выбрал себе куст и забрался под него. Сильно хотелось есть, и в голове мутило до тошноты. На голодное брюхо, говорят, и сон не идёт, но усталость взяла своё, и Владимир заснул.
Проснулся он от яркого солнечного света, который бил ему прямо в лицо. Открыв глаза, он сразу же их закрыл и отвернулся. Из глаз текли слёзы. Бочкарёв повернулся к солнцу, закрыл лицо шляпой и снова заснул.
Проснулся от лёгкого толчка в плечо. Это Гнат будил его на дежурство. Владимир с большой неохотой встал и направился на склон лога. Поднявшись по склону, забрался под куст, росший на самом верху, и осмотрелся.
Прямо от лога начинался густой лес. В логе рос только кустарник. Из-под одного куста высовывалась рука, из-под другого – нога до колена, из-под третьего уже полностью выкатился Валя-Рыжий и, раскинувшись ничком, сладко спал. От такой картины у Бочкарёва снова стали слипаться глаза, и ему пришлось долго тереть их руками, чтобы прогнать сон.
Приблизительно через час Владимир разбудил Щепеткова, лёг на его место и под стук дятла, чириканье и свист птиц уснул, проспав до самых сумерек, когда все уже собрались и были готовы к движению.
Подождав, когда совсем стемнеет, беглецы вышли из лога. В лесу было сыро, под ногами чавкала вода. Выходя из леса, напоролись на колючую проволоку. Лихой сильно ободрал себе ногу и живот, ему пришлось делать перевязку. После этого Лихой перешёл в тройку Бочкарёва, а Балицкий пошёл передовым.
Преодолев проволоку, вышли на поляну и быстро двинулись дальше, стремясь быстрее пройти открытое место. Однако путь бегущим преградил широкий овраг, на дне которого журчал ручей, а возле него лежали несколько фигур в белом и тихо между собой переговаривались.
Чуть отойдя назад, беглецы попытались обойти это место, но громкий окрик на непонятном языке заставил их прижаться к земле. Через некоторое время окрик повторился, и разговор на непонятном языке стал более громким.
Тут к Бочкарёву подполз Рыжий и сказал:
- Что мы испугались? Да ведь это гуси!
Подполз Лихой, потом остальные. Посовещавшись, решили напасть на гусей, предварительно их окружив. Рассредоточившись, оцепили гусей и стали к ним приближаться. Птицы сначала сидели спокойно, но потом забеспокоились, встали и пошли к ручью. Их стали забрасывать камнями, после чего гуси с громкими криками и махая крыльями устремились прямо на беглецов. Один из них царапнул Щепеткова крылом по лицу, другой ударил Бочкарёва лапами по голове, но один попал в руки Лихому, забился и закричал ещё сильнее. Лихой сразу завернул ему голову под крыло и гусь замолчал. Захватив пленника, беглецы двинулись дальше.
Но велико человеческое любопытство. Те, кто шёл сзади, старались ускорить шаг, передние, наоборот, притормаживали. И каждый старался спросить:
- Ну, как он там, живой?
- Живой, живой, иди, не приставай. На привале увидишь, даже на зуб попробуешь! – Говорил явно гордый и довольный Лихой.
Остаток ночи беглецы прошли безо всяких приключений и к утру встали на днёвку у подножия лесистого холма на берегу маленького озера. Место для днёвки выбрали в глубокой вымоине, над которой росло несколько ветвистых деревьев - чтобы не было видно ни с холма, ни с озера. Наломали веток, постелили их и улеглись. Но потом встали, посовещались и решили: гуся сварить и съесть - в запасе было несколько спичек.
Но если варить, надо зажигать костёр, а это демаскировка. Тогда решили съесть гуся сырым. Ещё тёплую тушку ощипали и разодрали по частям. У некоторых сила голода была такая, что, сдирая с гуся кожу, они тут же начинали её жевать. В конце концов, все последовали их примеру.
Бочкарёву достались обе лапы, все кишки и почки. Он пошёл к озеру и всё тщательно вымыл. Вернулся к остальным, взял толстый короткий сучок, обернул вокруг него кишки и стал делать «отбивную». Однако, как оказалось, зря. Кишки были тонкие, Владимир их основательно порвал да ещё вывалял в земле. Пришлось их выбросить. Он погрыз лапы, сжевал почки и улёгся на ветки спать.
Вечером встали и тронулись дальше. Тут уже пришлось идти по холмам и скалам, минуя большие дороги.
В одном месте в стороне от дороги в небольшом лесу стояло имение. Беглецы вышли на него неожиданно, сразу подались назад, углубились далеко в лес и собрались на небольшое совещание. На совете решили, что надо попытать счастья, не удастся ли здесь чем-нибудь поживиться.
Послали разведку – Григорьева и Рыжего. Походив около часа вокруг имения, они вернулись и сообщили, что прямо напротив расположен какой-то сарай, крытый черепицей. За имением находится пруд, на берегу которого стоит большой дом, огороженный высоким каменным забором. По дороге от имения стоят столбы, и тянется линия телефонных проводов. Тут Балицкий, вступая в права старшего, сказал:
- Ребята, слушайте, что я буду говорить. Сейчас мы окружим имение. На дороге выставим дозор, чтобы в случае чего нас неожиданно не накрыли. А провод на всякий случай нужно оборвать. Вначале проверим сарай, а там будет видно, что делать дальше. На дорогу дозорными пойдут Рыжий и-и-и… ну, пусть Саша Щепетков. Ваша задача – оборвать провода, смотреть и слушать, не едет ли кто по дороге. Мы, остальные, разбиваемся на две группы. Одни будут наблюдать, другие – работать. Всё, приступаем.
Рыжий с Щепетковым отправились на дорогу, остальные пошли к сараю.
Сарай находился метрах в 20 от леса. Беглецы разбились на две группы. Одна стала вести наблюдение со всех сторон, в особенности за домом. Вторая, в которую попал Бочкарёв, пошла к сараю. Они вышли из леса и ползком начали подбираться к сараю. Тишина была мёртвая. Только деревья шумели верхушками. Подползли к сараю, прислушались. Ни звука. Встали и приступили к осмотру.
Сарай был деревянный на кирпичном фундаменте. Высоко над землёй находились окна, заделанные тонкой решёткой. Под окнами вдоль стены тянулась толстая, в палец, проволока. Балицкий предложил:
- Вот что, ребята, мы сделаем: двое встают к стене, кладут друг другу руки на плечи. Один встаёт перед ними на четвереньки.
Так и сделали. Получилось что-то вроде крыльца. Только таким образом пристроились, как раздался тихий звон вдоль стены, который распространялся по проволоке и быстро нарастал. Вдоль стены по направлению к стоявшим приближался большой чёрный ком. Они кинулись в сторону от сарая, но Балицкому пришлось пострадать. Чёрный ком, который был собакой, громадным прыжком настиг его и схватил за штаны, вырвав из них хороший лоскут. Но Балицкий всё-таки успел отбежать.
Беглецы вернулись в лес, выломали длинные палки и вернулись обратно к сараю. Пёс, как только увидел, что к нему подходят, начал кидаться на людей с глухим рычанием, но почему-то не лаял. Беглецы снова разделились на две группы. В одной Бочкарёв, Балицкий и Гнат, в другой – Нефёдов и Григорьев. Нефёдов и Григорьев стали тыкать пса палками, отступая вдоль стены и увлекая разъярённую собаку за собой, а остальные занялись проникновением в сарай.
Балицкий вскочил к Гнату на плечи, оседлал его, ухватился за решётку и потянул её на себя. Но она лишь чуть погнулась в его сторону. Рвануть её он не мог, так как не было опоры, а Гнат уже сгибался под его тяжестью.
- Володя, - позвал Балицкий, - возьми меня поперёк туловища и попробуй рвануть на себя, может, получится.
Владимир обнял Балицкого и рванул так, что Гнат свалился на Бочкарёва, а Балицкий перелетел их обоих, но зато с решёткой в руках. Потёрев ушибленные места, продолжили своё дело. Теперь роль лошади пришлось исполнять Владимиру. Его товарищи вначале взбирались на него, а затем в окошко. Бочкарёв оставался на улице ожидать их.
По проволоке опять зазвенело, и Владимир отошёл от сарая. Вдоль стены снова бежал пёс, а Нефёдов и Григорьев бежали сзади и гнали его палками. Когда они проследовали мимо, Бочкарёв снова подошёл к окну. Через некоторое время из него высунулся Гнат и передал Владимиру наполненный чем-то мешок, потом ещё мешок, потом начал передавать топоры, ножи и две косы. Топоров было шесть, ножей – девять. Передав всё это, Гнат и Балицкий вылезли сами. Собрав всю добычу, беглецы удалились в лес. Здесь они взяли в руки по палке и стали стучать по дереву, созывая остальных ребят. Это был условный сигнал, о котором они договорились заранее.
Через короткое время все были в сборе. Быстро разобрали добычу, и пошли дальше. К рассвету находились уже далеко от этого имения. На днёвку залегли в яме, похожей на кратер, на вершине скалы. Очень хотелось есть. Все сели в круг и стали делить добычу. В одном мешке была пшеница, в другом – не ободранная гречиха. Пшеницу разобрали сразу, а от гречихи все отказались. Как сказал Рыжий:
- Чтоб я взял гречиху? Да ни в жизнь! Мне в лагере она надоела. - Гречиха у узников в желудке практически не переваривалась, поэтому некоторые её ели несколько раз, доставая из нечистот.
Собрали сушняка, развели почти бездымный костёр и стали жарить на нём пшеницу. Бочкарёв нашёл небольшой лист жести в ладонь величиной, насыпал на неё зёрен и поставил на огонь. Когда пшеница поджарилась, он съел её. Пожарил ещё, съел, потом ещё. В конце концов, ему надоело жарить и он съел всю доставшуюся ему пшеницу в сыром виде, завернулся потеплее в одежду, привалился к Щепеткову и уснул.
Несколько последующих суток беглецы шли без особых приключений, добывали пищу, останавливались на днёвки, ели, спали. Наконец, ночью вышли к какому-то заводу и решили в нём чем-нибудь поживиться, так как перед этим дня три ничего не ели. То, что удалось украсть в имении, уже кончилось, пришлось съесть даже не ободранную гречиху.
Беглецы посовещались, составили план, расставили посты, договорились о сигналах, месте сбора. Бочкарёв, Балицкий и Валька Рыжий стали обходить завод вокруг. В одном месте перед большим зданием с высокой трубой они залегли в канаву и стали наблюдать, не ходит ли кто по двору. Не обнаружив никого, Бочкарёв и Балицкий поползли, оставив Рыжего в канаве, чтобы он в случае чего подал остальным сигнал об опасности.
Обогнув, где по-пластунски, где на четвереньках, здание на низкой крыше то ли подвала, то ли холодильника они обнаружили окно и заглянули в него. Внутри было темно и ничего нельзя было разглядеть. В нос ударил какой-то кисловатый запах.
- Пекарня… - сделал неуверенный вывод Владимир.
- Скажешь тоже! В таком сарае – пекарня?! – Отозвался Балицкий.
- А ты посмотри, какая труба.
- Ну, ты лезь, а я тебя держать буду, - предложил Балицкий Владимиру.
Из окна вынули стёкла, Бочкарёв просунул в него ноги и стал нащупывать опору. Балицкий держал его за лямки штанов. Наконец, Владимир нащупал край какой-то доски, потом ещё доску:
- Кажись, подо мной полки. А это, кажется… - Но, досказать он не успел. Доски из под Бочкарёва выскользнули, с шумом попадали вниз, и он повис на лямках. Потом лямки оборвались, и Владимир упал в какую-то жидкость, в которой что-то лежало. Это что-то стало коробиться под его ногами и уходить куда-то вниз. Бочкарёв испугался и, забыв о всякой осторожности, громко закричал:
- Давай руку, быстрее!
Балицкий, осуждающе зашипев на своего товарища, схватил его за руку, потом за волосы и стал тянуть наверх. Штаны Бочкарёва за что-то зацепились, пришлось от них освободиться, и только так ему удалось выбраться наверх. Они быстро спрыгнули с крыши и бросились бежать во всю мочь.
Валька Рыжий, увидев бегущих к нему и сопоставив это с криком Владимира, подумал, что их поймали, вскочил и тоже побежал, крича:
- Ребята! Разбегайтесь! Меня ловят!
Балицкий с Бочкарёвым его кое-как схватили, несколько раз ударили по шее, чтобы не орал, повалили на землю и ползком оттащили с открытого места, и только тут он их узнал. Сразу был подан сигнал о сборе, и без лишних слов все быстро двинулись прочь от этого места.
Вначале Владимир шёл и ничего не чувствовал, но через некоторое время ему стало щипать ноги, и на них стали появляться какие-то белые волдыри. Каждый прутик, хлеставший по ногам, причинял Бочкарёву адскую боль. Двое его товарищей подхватили его с двух сторон, идти стало немного легче, но боль от волдырей не прекращалась. Они саднили, зудели и лопались, отчего ноги болели ещё сильнее. К тому же подул ветер, стало холоднее, а Владимир был почти полуголый, в одних кальсонах, которые изодрал ещё раньше, до того, как порвал штаны. Видя его мучения, Щепетков отдал Бочкарёву свой балахон и тот носил его всё время, пока кожа не начала заживать. Беглецы решили, что завод, на котором им так не повезло, как-то связан с кожевенным производством.
Наконец, горы и лес кончились. Местность стала более открытой. На ней располагались сельскохозяйственные поля, разделённые небольшими рощицами, обозначавшими границы частных владений. Тут же стояли и жилые постройки хозяев. Поначалу беглецы обходили эти хозяйства, но потом стали ходить через поля напрямик от одного лесочка к другому.
В одном месте они, как и везде, перескочили поле, вошли в лес. Вдруг от передовой группы поступил сигнал тревоги. Все легли. Первая группа подползла и сообщила, что впереди за леском слышны чьи-то осторожные шаги. Посовещались и решили проверить – а вдруг это такие же, как они, беглые, тоже прячутся по кустам. Только закончили совещаться, как услышали, что кто-то бежит по направлению к ним. Беглецы присели, на всякий случай сжимая в руках топоры и ножи.
Тут всех позвал к себе Гнат. Беглецы подползли и увидели, что возле него кто-то стоит. Оказалось – баран. Подошли, пощупали – действительно, живой баран. Его сразу схватили за рога и поволокли. Дотащили до дороги, как всегда разбились на тройки и начали её переходить. Первая проскочила удачно, вторая, в третьей вели барана. Бочкарёв был в четвёртой и приготовился, было, бежать. Но баран, до этого шедший послушно, вдруг раскорячил на дороге все свои четыре ноги на четыре стороны. Беглецам, отощавшим и бессильным, было его не столкнуть. Попытались – безуспешно. Услышав, что по дороге приближается машина, бросили барана и спрятались в кустах.
Грузовик с разгона налетел на барана и сбил его. Водитель сначала притормозил, но потом дал газу и, только его и видели. Вначале подумали, что он увёз барана. Подползли к дороге и обнаружили барана уже бездыханным. Схватили его и в кусты. Решили разрубить тушу на куски и тащить её по частям. Бочкарёву, как больному, досталось нести голову. Некоторое время он нёс её, но с каждым шагом она была всё тяжелее и тяжелее, тогда у него созрело предложение:
- Добро было б мясо, а то одни кости да рога. Может бросить её?
- Бросай, - ответили ему хором.
И Владимир с радостью бросил непосильную для него ношу.
Целых две ночи беглецы топтались на берегу широкой реки, ища место поуже. Вначале хотели перебраться вплавь, но пришлось отказаться от этого плана – при таком нерегулярном питании, истощении, состоянии, ослабленном болезнями, для большинства из них такая переправа грозила гибелью. Думали найти лодку, но они, как известно, как попало, на берегу не валяются, а прикованы цепями, а ломать цепи – значит, поднимать шум.
В одном месте обнаружили водный стадион с причалом спортивных лодок. Место казалось подходящее – в стороне от населённого пункта, в заливе, берега которого заросли лесом - и решили попытать счастья здесь. Разведку залива сделали ещё в первую ночь, а во вторую приступили к осуществлению своего плана.
Григорьев с Нефёдовым ещё раз осмотрели местность - вокруг не было ни души. Как и всегда, со всех сторон обставились постами и начали действовать. Бочкарёв, Балицкий, Нефёдов и Рыжий сбивали замки с помощью кольев и камней, а чтобы цепи не звенели, опутывали их лохмотьями. Таким образом высвободили три лодки и только взялись за четвёртую, как услышали топот нескольких бегущих ног и одновременно свист дозорных – «Тревога!».
Бросив возиться с очередным замком, вскочили в свободные лодки и быстро погребли к выходу из залива. Но не тут-то было. Выход из залива в сторону реки был загорожен воротами – бревном, в котором были воткнуты колья, не позволявшие перетащить лодку через бревно. Беглецы побросали лодки, перелезли через ворота и, им ничего не оставалось, как попытаться преодолеть реку вплавь. Но этого им было не суждено.
Не успели они удалиться метров на двадцать-тридцать, как в ворота выплыла моторная лодка и догнала беглецов. Преследователи повылавливали их из воды, как рыб, связали всем руки и повезли к берегу, где уже стояла большая кричащая толпа немцев. Бочкарёв подумал: «Сейчас всыпят!» Но, на удивление, их не били - вывели на берег и повели в деревню.
На улице деревни, освещённой электрическими фонарями, было очень много немецких полицаев. На площади, возле высокого трёхэтажного дома пленников остановили. Через некоторое время из дома вышел здоровенный, под два метра ростом и толщиной чуть ли не в метр, немец. Конвойные отдали ему честь, и старший из них что-то ему доложил. Толстый искоса поглядел на пленных, что-то пробурчал по-немецки и вернулся в дом. Пленных ввели во двор этого дома и заперли в каменный амбар, перед этим развязав руки.
Амбар представлял из себя дровяной склад. Вдоль его стен поленницей были сложены дрова, а в углу досками был отгорожен каменный уголь. Всё освещалось электрическим светом. Пленные расположились на дровах, чтобы уснуть, о сон не шёл. Каждому в голову шли мрачные мысли, одна страшнее другой. Все знали, какой приём немцы оказывают тем, кто бежал из плена, и кого поймали. Не раз им приходилось слышать о тех мучениях и пытках, которым они подвергают беглецов.
Некоторые были будто оглушены тем, что их поймали. Они сидели на поленнице с безразличным видом, молча, уставившись в одну точку. Другие наоборот, старались разговорами и шутками заглушить в себе страх и мысли о том, что их ждёт впереди.
Балицкий созвал всех и начал учить тому, что надо говорить на допросе:
- Вот что, хлопцы, надо что-нибудь решить между собой, как будем выкручиваться на допросах. Слушайте, что нужно говорить. Надо говорить, будто мы цивильные, убежали с фабрики и пробираемся домой. А, если спросят куда, говорить – на Украину.
- Ой, нет, немцы не такие дураки, чтобы сразу поверить всему, - сказал Щепетков, - да они вмиг распознают нас по барахлу! Ты думаешь, если мы одеты в барахло с пугала, то всё! Нет, такая монета не пройдёт. Говорить, так что-нибудь другое, только не это. Они попросят у нас документы, а их нет. Спросят фабрику и хозяина, где мы работали, а мы не знаем. Ну, а немцы не любят, чтоб им врали, и попадёт нам вдвойне, а может и втройне.
- Что ж, товарищ Щепетков, - отозвался Рыжий, по-твоему, как я понял, нам просто нужно сознаться во всём и нас за это простят.
- Нет, ты меня неправильно понял, - начал оправдываться Щепетков, но Балицкий его перебил:
- Ладно, Щепетков, ты очень хорошо сказал, и это мы учтём. Щепетков прав, и надо принять во внимание всё, что он сказал. Будем говорить каждый за себя…
- Нам же хуже будет, - сказал Григорьев, - мы в показаниях будем путать самих себя. Лучше давайте договоримся говорить что-нибудь одно, чтобы знать, что говорит другой.
- По-моему, надо молчать, - буркнул Нефёдов.
- Они заставят говорить, - сказал Рыжий, - и не только говорить, но и петь, и плясать.
- Нет, это глупо, - вступил в обсуждение Лихой, - мы должны говорить. И они сумеют нас заставить говорить, на это они мастера. И ещё они могут за молчание нас всех перебить. А если мы будем говорить, то может быть останемся живы. Надо говорить, что номер лагеря забыли, город тоже не знаем, потому что туда привезли недавно, а бежали домой, в Россию.
После Лихого Бочкарёв уже никого не слышал. Перед ним всё поплыло, будто он падал, но потом оказалось, что он не падает, а летит, изо всех сил махая руками и ногами. Полетал немного, потом опустился на землю. Но вдруг это оказывается не земля, а остров. На острове лежит обгорелый человек, а рядом с ним сидит Балицкий, смеётся и спрашивает:
- Ты есть хочешь?
- Хочу, - отвечает Бочкарёв.
Он тогда отламывает руку у жареного человека и отдаёт Владимиру. Тот будто хочет взять её, а не может - руки не слушаются. Тогда Балицкий стал есть сам. А обгорелый человек вскакивает, хватает Бочкарёва за грудки, трясёт и приговаривает:
- Не кричи, не кричи, не кричи!
Проснулся Владимир весь в поту, его тряс Валя Рыжий:
- Чего?
- Чего-чего! Ты орёшь на весь амбар.
Бочкарёв поднялся. Рядом стояли остальные.
- Ну, и кричишь же ты, словно тебя режут. Чего ты орал? – Спросил Рыжий.
Владимир рассказал свой сон. Балицкий, услышав, что во сне он будто бы ел жареного человека, проворчал:
- Какой хороший товарищ, а какую глупость рассказывает.
Все разошлись по местам, после чего Рыжий, полежав немного молча, прошептал Бочкарёву:
- Ой, Вовка, ну и напугал же ты меня. Я сплю, а ты меня как стукнешь в живот, а потом давай лягаться. Я вскочил, вижу, а ты руками машешь и орёшь. Ну, я и стал тебя будить Владимир долго не мог опомниться от этого кошмарного сна, у него тряслись руки. Наконец, немного успокоившись, он снова заснул. Проснулся, когда двери амбара уже были открыты, а на пороге стоял вчерашний пузатый немец. Он, очевидно, только что зашёл, потому что вешал замок на гвоздь у двери. Потом повернулся и протяжно, басом сказал:
- Аufstehen!
Пленные, кто не спал, сразу вскочили и начали будить остальных.
Проснувшись, Бочкарёв стал трясти за плечо Рыжего, но тот долго не просыпался, мычал и лягался. Владимир встряхнул его ещё сильнее. Рыжий открыл глаза, огляделся и, увидав немца, быстро вскочил. Немец оглядел всех, кивком указал на дверь и пошёл из амбара. Пленные – за ним.
Во дворе стояла большая машина с салоном, как у автобуса, но без окон. Вокруг стояли охранники с тесаками в ножнах и с винтовками. Тут только Бочкарёв, как следует, разглядел толстяка.
Он был одет в жёлтый китель, такие же брюки и фуражку с высоко поднятым околышем и сапоги жёлтого цвета. Толстяк по-немецки отдал приказ одному из охранников, и тот открыл заднюю дверцу машины. После этого толстяк повернулся к пленным и указал рукой на машину, чтобы те садились в неё. Пленные залезли в машину, но она почему-то не трогалась. Через некоторое время им поднесли и выдали грамм по 300 хлеба и по кружке пропущенного молока. Покормив, их заперли в машине на замок и повезли.
В машине было темно, и пленные не видели, куда их везут. Приблизительно через полчаса машина остановилась. Послышался какой-то неясный шум, немного спустя загремел замок, открылись двери и немец-охранник сказал:
- Рус! Апп!
Пленные вылезли из машины и увидели, что их привезли на железнодорожный полустанок. Здесь же стоял источник неясного шума – поезд. Охранники окружили пленных со всех сторон и повели их вдоль состава в хвост поезда. Из вагонов в окна и в двери на них, как на зверей, смотрели пассажиры.
Предпоследний вагон, куда посадили пленных, представлял из себя холодильник-рефрижератор, переоборудованный в пересыльный. Вдоль стен были сооружены частые перегородки, и только в середине вагона имелся широкий проход. Пленных посадили за перегородки по одному, а по проходу ходил немецкий солдат, вооружённый пистолетом и тесаком. Он пресёк все попытки переговариваться через перегородки и дал команду всем лечь на пол. Пленные улеглись в своих клетушках. Было темно. Только проход, несмотря на то, что был день, освещался электрическими лампочками.
Немного постояв, поезд тронулся. На полу в клетушках ничего, кроме досок, не было. Но за долгие месяцы неволи пленные уже привыкли к подобным постелям, и Бочкарёв под равномерный стук колёс быстро заснул.
Проснулся от толчка в плечо. Над ним стоял немец и делал рукой знак, чтобы Владимир поднимался. Он встал и пошёл к выходу. Его товарищей в вагоне уже не было. У дверей стояла машина, похожая на советского «чёрного воронка», только выше и больше. Прямо напротив вагона располагалась большая водонапорная башня, наподобие огромной колонны, увенчанной сверху причудливым восьмиугольным домиком с большим количеством окошек. Мимо машины прошёл немец-железнодорожник, который безо всякого любопытства, как бы мельком, взглянул на пленных. Ему, наверное, не впервой было видеть подобную картину. Бочкарёва посадили в машину, где на скамейках уже сидели все его товарищи. Дверцы автоматически закрылись, щёлкнул замок, и машина тронулась.
В этой машине тоже не было окон, и только вверху, на крыше располагалось небольшое отверстие, которое было предназначено больше для вентиляции, чем для освещения. Свет через него практически не проникал.
Минут через двадцать машина остановилась, стала сдавать, обо что-то ударилась, дверцы сами собой распахнулись, и перед пленными открылся длинный пустой коридор.
- Раус, раус! – Крикнул из кабины немец, и все по одному стали выходить.
Когда вышел последний, двери коридора захлопнулись, и пленные остались одни, но не надолго – открылась одна из боковых дверей и из неё вышло человек десять в тёмно-зелёных мундирах, в фуражках с орлами, вооружённых пистолетами и резиновыми дубинками. Они бесцеремонно всех обыскали, потом выстроили в одну шеренгу и произвели «переписку».
Старший из немцев шарил глазами по шеренге, указывал глазами на кого-либо из стоящих в ней. Тот, на кого он указывал, должен был немедленно выскакивать из строя, подбегать к небольшому столику и быстро писать свои данные. И, не дай Бог, он замешкается или попадёт не в ту графу – его лупили резиновыми дубинками, куда попало, включая голову, пока не добежит до столика, не возьмёт в руки карандаш и не сделает всё так, как требовали.
После переписки пленных погнали в конец коридора, посадили в лифт и спустили вниз. Двери лифта открылись, и они очутились в подземном, широком коридоре, по обеим сторонам которого располагалось множество металлических дверей с номерами. В каждой двери было оборудовано маленькое окошко размером приблизительно 10 на 10 сантиметров, забранное в решётку.
Вновь прибывших сразу окружили охранники, на этот раз одетые в чёрные мундиры и в брюки типа клёш. Они «заботливо» их осмотрели со всех сторон и «вежливо» повели по коридору в так называемую «баню».
Пленных привели в свободную камеру, приказали всем раздеться, а потом перевели в другую камеру, где вместо тепла они попали в страшный холод. Попытались торкнуться назад, но двери оказались закрытыми. Все сгрудились у выхода, но неожиданно сверху ударили сильные струи холодной воды. От этих струй было невозможно спрятаться, они били со всего потолка и из стен. Спустя пятнадцать минут, когда ни у кого уже зуб на зуб не попадал, двери открылись, и пленные кое-как выползли из «бани». Им выдали полосатые брезентовые куртки и штаны, на ноги – деревянные колодки, а на голову - круглую ермолку, тоже полосатую. Полосы были широкие, в два пальца шириной, красные и белые. Когда пленные всё это одели, они все стали внешне одинаковы и трудно узнавали друг друга. Разве что по росту, да и то путались.
Их повели по коридору назад и стали распределять по одному в камеры размером не больше метра в ширину и пять в длину. У входа в камеру располагалась маленькая раковинка с ручкой вверху – это была параша. На середине камеры к стене был привинчен стол и в углу на противоположной стороне – откидная кровать в приподнятом положении, которое удерживалось навесным замком. Над дверью в стене имелось углубление, где располагалась лампочка с абажуром наподобие прожектора, что позволяло смотрящему в дверное окошко видеть заключённого, а заключённый, ослеплённый ярким лучом света, видеть смотрящего не мог. В одну из таких камер под номером 6 в отделении номер 2 заперли и Бочкарёва.
На столике в камере лежала молитвенная книга в чёрном переплёте, на обложке которой был вытеснен четырёхконечный крест. Как только Владимира втолкнули в камеру, им овладел какой-то панический страх. Чем он был обоснован, Бочкарёв не разобрался, вероятнее всего одиночеством, так как последние месяцы он привык видеть вокруг себя большое количество людей. Тем не менее, Владимир понемногу пришёл в себя и начал осматриваться.
Вначале он ознакомился с парашей. Взялся за ручку, подёргал и посмотрел, как в раковину сбоку с шумом ворвалась струя воды и наполнила её. Отпустил ручку – вода ушла вниз. Снова начал дёргать ручку до тех пор, пока вода не наполнила раковину. Потом снова отпустил ручку… Он повторил эту процедуру не менее пяти раз, шум воды его окончательно успокоил и Влдаимир продолжил изучение камеры.
Подошёл к столику, полистал книгу. Она была написана на непонятном языке. Потрогал постель. Она была не особенно мягкая и состояла из подушки, пришитой к матрасу, и одеяла. Осмотрел постель сантиметр за сантиметром, проверяя её на содержание клопов. Лечь на кровать было нельзя, так как она была приподнята и заперта на замок.
Тогда Бочкарёв снова подошёл к раковине и начал дёргать за ручку до тех пор, пока в окошке не показалась голова немца:
- Rus! Was machen Sie?
Потом опять, но уже по-русски:
- Так делайт неможна!
Бочкарёв отошёл от раковины и начал снова рассматривать книгу. Хотел взять её в руки, но она была прикреплена к столику толстым шнурком. Потом ему вспомнились строки из какой-то давно прочитанной книги, где описывались тюрьма и камера смертников. В описании присутствовала библия, которую давали смертнику для чтения. От этих воспоминаний и проведённых сравнений Владимиру снова стало не по себе. Так не хочется умирать, когда тебе нет ещё и двадцати! У него противно сжалось сердце, внутри всё похолодело, затряслись руки, ноги.
Но Бочкарёву недолго пришлось оставаться наедине с самим собой. В коридоре раздался резкий и продолжительный звонок, по нему забегали охранники, которые, гремя связками ключей, открывали двери. Дверь его камеры тоже открылась, и прозвучал приказ по-русски:
- Выходи на поверку! Живо!
Владимир выскочил из камеры и, не зная порядков этого застенка, сразу устремился в строй. Но подскочил охранник, схватил его за шиворот и отшвырнул к камере. Бочкарёв, не понимая ничего, забежал обратно в камеру, вслед за ним – охранник:
- Weg, russisch Schwein!
Владимир, как пуля, снова выскочил из камеры и хотел было опять встать в строй, но в это время охранник из его камеры закричал:
- Halt!
Бочкарёв замер в том месте, где его застала команда. Охранник, выйдя из камеры, схватил его за шиворот, потащил обратно к камере и поставил возле двери. Владимир застыл как столб и боялся пошевелиться. Вдруг прозвучала резкая команда:
- Nach links!
Шеренга, стоявшая напротив Бочкарёва, стуча деревянными колодками, повернулась налево. Он тоже хотел повернуться по команде, но при повороте увидел у следующей двери охранника, показывающего ему кулак, и остался в том положении, в каком стоял. Противоположной шеренге скомандовали:
- Марш! – И она двинулась по коридору.
И только тут Владимир увидел в руках у каждого, стоявшего в этом строю, маленький круглый котелок, и понял для чего их строили – для получения пищи. Бочкарёва и его товарищей не повели с ними потому, что ещё не поставили на учёт.
Вдруг охранники все как один выскочили на середину коридора, замерли как по команде «смирно» и стали коситься в сторону Бочкарёва, но не на него, а куда-то вдоль коридора. Владимир тоже скосил глаза в ту сторону – по коридору к ним направлялась группа немецких офицеров. Когда они подошли совсем близко, все охранники враз щёлкнули каблуками, выкинули правую руку вперёд и вверх и выкрикнули хором: «Хайль Гитлер!» Офицеры тоже подняли руки и остановились.
Немцы начали между собой разговаривать на своём языке о каких-то собаках. Это Бочкарёв понял потому, что в разговоре часто повторялось слово «Hund», которое он знал, поскольку этим словом его уже часто называли.
Немного поговорив, офицеры повернулись к пленным и один из немцев начал по-русски знакомить их с тюремными порядками:
- Русские, которые находятся в следственном отделении, должны вести себя тихо, не стучать в стены камер, не ломать находящиеся в камерах вещи, не рвать постели и настольные «требники». За все нарушения и шум будете подвергнуты строгой изоляции или, смотря по нарушению, более строгим мерам наказания!
После этого всех стали записывать в список в алфавитном порядке, присвоили номера и поставили на довольствие. Один из охранников куда-то сбегал, принёс и раздал пленным круглые котелки. Офицеры отошли в сторону и один из охранников, судя по нашивкам на погонах, унтер, скомандовал по-русски:
- В одну шеренгу становись! – Повернулся к офицерам и попросил разрешения вести строй.
Старший из офицеров утвердительно кивнул головой и пленных повели.
Коридор, по которому их вели, был главным. От него в разные стороны шли ответвления. Миновав четыре из них, пленных повернули в пятое и метров через шестьдесят остановили. По обеим сторонам этого коридора располагались двери, а чуть впереди он заканчивался поворотом и ступеньками уходил вниз.
Пленных разбили на шестёрки и одну партию, в которой находился Бочкарёв, повели вниз. Спустившись по ступенькам примерно метра на четыре, они очутились в большом круглом зале с перегородкой и двумя дверьми, одна из которых открывалась внутрь, другая – наружу. Пленных построили в одну колонну и по одному стали впускать за перегородку. За ней стоял котёл и находился немец, который наливал каждому баланду и выпроваживал получившего её в другую дверь. Шестёрку Бочкарёва быстро прогнали через этот зал и вывели наверх, но уже с другой стороны. При выходе Владимир украдкой взглянул на соседа и встретился глазами с Лихим, который тоже посмотрел на него. Бочкарёв улыбнулся и одним движением губ спросил: «Жив?» Лихой в ответ тоже улыбнулся и кивнул головой.
Пленных вывели наверх и оставили стоять до тех пор, пока другая шестёрка не получила баланду, и только после этого строем повели в обратном направлении.
Вернувшись в свою камеру, Бочкарёв обнаружил, что кровать была отперта, а книги на столе не было, хотя шнурок, к которому она была привязана, болтался на месте. Владимир сел за стол и съел баланду, даже не почувствовав, тёплая она или холодная, чем была заправлена или из чего сварена. Просто приложился к краю котелка и, не отрываясь, выпил всю жидкость. После этого лёг на кровать и уснул.
Сколько он проспал, неизвестно. Разбудил его унтер с бумагой в руке:
Фамилия? – Бочкарёв ответил.
- Номер?
- 41734!
Унтер приказал ему встать и следовать за ним. Когда Владимир вышел, унтер закрыл камеру, подошёл к соседней и открыл её. Из этой камеры вышел Нефёдов, по-детски потирая заспанные глаза. Немец подошёл к стене, нажал на кнопку и где-то вдалеке глухо отозвался звонок.
В той стороне коридора, куда пленных водили получать баланду, показались два других охранника, вооружённых пистолетами и короткими, в полуметр длиной, резиновыми дубинками. Они шли в ногу и, подойдя близко к пленным, замерли. Унтер по-немецки отдал какой-то приказ, после чего один из охранников встал впереди Бочкарёва и Нефёдова, другой – сзади, и их повели. Дойдя до первого поворота, повернули и подошли к узкой и высокой железной клетке лифта, как бы вделанной в нишу.
Конвоир, шедший впереди, открыл дверь клетки, вошёл внутрь и позвал пленных. Они вошли. Второй конвоир закрыл дверь и нажал одну из четырёх кнопок с номерами, располагавшихся у двери. Клетка бесшумно двинулась вверх, за решёткой замелькали этажи. У нужного этажа клетка остановилась, охранник открыл дверь, за ней открылся ярко освещённый коридор, по одну сторону которого располагались несколько дверей, выкрашенных светло-зелёной краской, по другую – ряд окон, от верха до пола задрапированных чёрной бумагой.
Пленных повели по коридору и втолкнули в одну из дверей. Бочкарёв с Нефёдовым очутились в узкой и высокой с маленьким зарешеченным окном камере, тускло освещённой маленькой лампочкой, горевшей под самым потолком. По правую сторону от входа у стены камеры стоял деревянный диван. Другой мебели не было. Это была камера ожидания.
После того, как их втолкнули в камеру, и защёлкнулся замок, Владимир и Нефёдов некоторое время постояли на пороге, потом прошли и сели на диван. После пятиминутного молчания Нефёдов заговорил шёпотом:
- Владимир, ты не забыл, о чём мы условились, что будем говорить на допросах?
- Нет, - ответил Бочкарёв.
- Смотри, ничего не перепутай, иначе и сам погибнешь, и других погубишь.
Немного помолчав, он снова заговорил:
- Как условились, так и будем говорить.
Вдадимиру не хотелось разговаривать, на душе было тяжко, но в то же время не хотелось, чтобы в камере было тихо. И Нефёдов, будто понимая его состояние, снова заговорил:
- Мы с тобой русские люди. Мы не должны ронять достоинство своего народа, должны быть твёрдыми, в своих показаниях не должны ничего путать. Это такая малость, но так много. Это может помочь другим…
- Как это может помочь другим? – Спросил Бочкарёв, но не для того, чтобы получить ответ, а для того, чтобы Нефёдов не молчал, и он продолжил:
- Нас с тобой первых вызвали на допрос. Ну, допустим, что первых. Когда вызовут остальных, их показания будут сличать с нашими. Если показания будут разные – всем будет трудней. Если одинаковые – всем будет легче. - Нефёдов говорил тихо и смотрел прямо в глаза, отчего у Бочкарёва на душе растаял камень и ему стало легче.
Прочувствовав всю глубину сказанного Нефёдовым, всю суть его слов, Владимир понял, что то, что скажет он, по возможности, ни на слово не отступая от того, о чём условились на совете, будет брошено на весы, как гиря, по которой будут взвешивать показания остальных.
Через некоторое время замок щёлкнул, дверь открылась, и прозвучал крик:
- Бочкарёв! Выходи!
Владимир вышел. За порогом стоял высокий немец в очках. В правой руке он держал листок бумаги, а левый рукав его кителя был заткнут за ремень. Немец спросил:
- Ви Ботшкарёфф? – Владимир утвердительно кивнул головой.
Безрукий посмотрел на него и опять спросил:
- Потшему головой машешь? Hund essen язик?
- Нет, не съел, вот он, - ответил Бочкарёв и показал безрукому язык.
Немец побледнел, потом покраснел, затопал на него ногами и заорал:
- Что-о-о?! Издеваешься, русская грязная свинья! Я тебя научу, как издеваться! Пшёл обратно!
Бочкарёв заскочил обратно в камеру, услышав за спиной крик:
- Нефёдов!
Нефёдов спокойно встал, оправился и пошёл к выходу. Немец посторонился, пропуская его, и потом захлопнул дверь камеры. Владимир остался один. Ему снова стало не по себе и страшно от понимания того, что он стоит на пороге испытаний, которые должен вынести вопреки всему, ради будущего. Он стал себя мысленно готовить к худшему:
«Я буду должен вынести всё, что на меня обрушится, во имя жизни своих товарищей, а также своей жизни. Может, придётся умереть, и надо найти в себе силы, чтобы умереть как человек, а не как собака или того ещё хуже, чтобы тебя не прокляли товарищи, которых, если струсишь, ты погубишь. Я не должен отступать ни на слово от того, о чём мы договорились на совете».
В коридоре послышались шаги. Загремел замок, и вошёл безрукий.
- Ну, ты! Пошёл!
Владимир вышел из камеры и остановился. Немец повернул ключ в двери и проследовал за ним. Они подошли к нужному помещению, немец открыл дверь, кивком предложил Бочкарёву войти внутрь. Комната была квадратная, метров шесть на шесть. Напротив двери стоял стол. Справа в углу располагался несгораемый шкаф, выкрашенный в жёлтый цвет, под дерево.
За столом, покрытым синим сукном и заваленным бумагами, сидел следователь и что-то писал, не обратив на вошедшего внимания. Владимир стоял и рассматривал его затылок, на котором курчавились чёрные волосы, оттопыренные уши, красные, будто следователь только что пришёл с мороза. Голова его по форме напоминала большое яйцо – сверху широкая, вниз, к подбородку – узкая. Волосы были коротко подстрижены, а на макушке торчали, как гребень у петуха.
Наконец, следователь отодвинул исписанный лист, положил ручку на подставку и посмотрел на Бочкарёва светло-голубыми, почти белыми глазами, бесстрастным и надменным взглядом. Потом достал из кармана френча носовой платок, провёл им по шее под воротником, взглянул на Владимира во второй раз и спросил:
- Как Ваше фамилие?
Бочкарёв ответил.
- Как Ваше имя, отчество, откуда родом?
Владимир ответил. Следователь всё это записал, потом встал, вышел из-за стола, прошёлся по комнате, остановился напротив него и резко спросил:
- Комсомолец?
- Нет! – Так же быстро ответил Бочкарёв.
- Кем были в армии?
- Рядовым!
- Откуда убежал? – Вопросы сыпались быстро, не давая возможности собраться с мыслями.
- Не знаю!
- Почему не знаешь?
- Нас только что привезли, и я сразу убежал…
- Один?
- Да…
- Врёшь! – Резко крикнул следователь.
- Нет! – Тоже перешёл на крик Бочкарёв.
Следователь в упор взглянул ему в лицо, подошёл к столу, нажал кнопку для вызова охранника и сказал:
- Хорошо, я дам Вам время подумать.
Дверь бесшумно открылась, и вошёл безрукий. Следователь что-то тихо сказал ему по-немецки. Безрукий повернулся к Владимиру и, кивнув головой на дверь, сказал:
- Иди!
Бочкарёв вышел в коридор, безрукий опередил его, подошёл ещё к одному помещению, открыл дверь и впустил его.
Комната оказалось узкой и вытянутой, вдоль её правой стены стояло несколько стульев, на которых сидели четыре узника-подследственных. Их позы были неестественны – руки лежали на коленях, а взгляд устремлён в противоположную стену.
В углу сидел здоровенный пожилой солдат с седыми усами, старательно закрученными кверху колечками. При появлении безрукого он встал, шаркнул ногами и пошёл к нему навстречу. Безрукий что-то сказал и, повернувшись, вышел. Владимир разобрал только одно: «Vierundzwanzig», но не понял, к чему это было сказано.
Немец в упор взглянул на него и спросил:
- Как тебя зовут?
Бочкарёв назвался. Немец пошёл в свой угол и сел. Владимир стоял у двери и смотрел, как он медленно вынул из кармана часы, взглянул на них, потом на него и промолвил с издёвкой:
- Ну, молодой человек, Вам прописан длительный отдых вот в этих креслицах, - и показал вдоль стены на сидящих пленных, - второй стул от двери – Ваш, присаживайтесь.
Бочкарёв подошёл к стулу и сел, пытаясь устроиться поудобней.
Немец встал и из своего угла подошёл к нему:
- Что, молодой человек, хотите сесть поудобней? Давайте! - Потом резко схватил Владимира за плечи и неожиданно сильно встряхнул...
Дописав до того места, где начинались пытки, Бочкарёв отложил карандаш и надолго, не на один день и даже месяц, задумался. Попытки продолжить повествование в течение длительного времени ни к чему не приводили, и удачная, читабельная концовка не получалась. Карандаш валился из рук, и не только потому, что после плена у Владимира, «в память» об издевательствах, остались шрамы в виде длинных синих полос под ногтями, а также на голове и ладонях – ожоги от электродов. Кроме того, на протяжении всей его короткой жизни после войны Бочкарёв боялся работать с электричеством и не прикасался к проводам.
Переписывая несколько раз концовку этой главы и не получив того, чего хотел, Владимир провёл поперёк листа жирную черту, как бы прекращая все свои остальные попытки. - Пройти через издевательства и унижения фашистских концлагерей во второй раз, даже на бумаге, не каждому по силам.
В КАРЦЕРЕ
В маленькой сырой комнатушке в метр шириной и в два длиной в немецком концлагере он лежал на кирпичном полу как брошенная тряпка. В помещении было темно и сумрачно и только вверху, далеко от пола, почти на недосягаемой высоте заманчиво белело окошко. Он силился подняться, подобраться к окошку, но это ему никак не удавалось. Он с усилием пододвигал под себя ноги, упирался руками и шептал: «Сейчас, сейчас, минутку, ещё немножко…» По лицу его бежал пот.
Он опёрся руками о стену и постарался выпрямить дрожащие ноги. Руки дотянулись до заветного окошка, но ноги сами собой подогнулись, и он снова упал на пол.
Немного полежав, он снова подтянул под себя ноги, снова упёрся руками в пол, потом о скользкую стену, навалился на неё, медленно перебирая по стене руками, дотянулся до окошка, схватился за решётку и прильнул лицом к окну.
Первое, что он увидел, это был воробей, который сидел по другую сторону окна и клювом чистил своё крылышко. Узник замер и стал смотреть на воробья широко раскрытыми и удивлёнными глазами, будто перед ним не простенькая серая птичка, а сказочное пернатое из волшебного царства. Он смотрел на воробья и шептал: «Воробей, воробушек, не улетай!» Воробей не улетел и принялся за чистку второго крылышка.
У узника отказали ноги, и он снова опустился на пол. Немного отдохнув, он снова попытался подняться к окошку, и это у него получилось немного легче, чем в первый раз. Воробей по-прежнему сидел по ту сторону окна и, чирикая, вертел головкой в разные стороны. Узник прильнул к окошку ухом и жадно слушал воробья, будто это пел соловей. Да, в его положении это был соловей, это был признак жизни, замершей для него в этой сырой клетке.
Воробей вспорхнул и улетел. Узник прижался лицом к окошку, силясь ещё раз взглянуть на воробья, но больше его не увидел.
Узник опустился на пол с застывшей на лице счастливой улыбкой. Потом глухо заговорил: «Черт-те что! Как жизнь налажена! Одному дано право – летай, веселись! Другому – запрет на всё: то нельзя, это нельзя. Война, плен, вот эта темница…» Он повёл рукой вокруг себя и, уставившись в пол, задумался. В голове толклись неясные мысли, одна сменяя другую. Потом одна овладела им, и он с радостью ухватился за неё. Ему вспомнилось его беззаботное детство, которое прошло в большой и дружной семье, как они с братишками и сестрёнками лазали под застрехами крыши сарая и зорили воробьиные гнёзда, вытаскивая совершенно голых, только с небольшими пучочками перьев на кончиках крылышек птенцов. Потом он вспомнил стрижиное гнездо на перекладине в бане. Гнездо было слеплено из липкой грязи и выглядело очень аккуратно, словно ковшичек.
Он сидел, и знакомые милые картинки воспоминаний окружали его. Спустя некоторое время узник очнулся от дум и снова стал карабкаться к окну. Снова подтянулся на руках и прильнул к решётке. С той стороны было пусто, и только под окном качалась ветка какого-то дерева. И он также, как на воробья, уставился на ветку этого дерева, жадно следил за тем, как она качалась, рассматривал листья и, наконец, понял, что это акация.
Акация? У его дома под окном тоже росла акация, которая цвела жёлтыми цветами. Ещё в палисаднике были сирень с её душистым цветом и много других деревьев, им самим посаженных.
Он вспомнил жену, сына. Снова опустился на пол, и картины прошлого снова окутали его. Он вспоминал то время, когда был молодым неженатым парнем, развесёлым гармонистом. Вспомнил весёлые деревенские вечёрки, девчат, которые пели под его гармошку частушки, тот первый и второй, и третий, и десятый вечер, когда познакомился с Шурой. После свиданий, когда они сидели с ней до утра в их саду, на него долго ворчала мать.
Мать! Как это было давно! Когда он её похоронил, думал, что навеки всё потерял. Он так переживал её смерть, что не находил себе места. Ни в доме, который отдавал страшной пустотой, ни в поле, где работа валилась из рук. Только встречи с Шурой оставались светлым пятном в его жизни. Потом она пришла в его дом, и жизнь постепенно стала налаживаться…
Это был день как день, ничем не примечательный для узников фашистского концлагеря. Но потом, спустя годы он вспомнит и посчитает, что именно в этот день в карцере до его встречи с женой оставалось ровно столько же дней, сколько прошло со дня их расставания.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сделав в предисловии к запискам В.Бочкарёва вывод о том, что все трудности и невзгоды, которые могли выпасть на долю их автора, уже миновали, я оказался неправ. Когда рукопись уже была подготовлена к печати одна успешная дама из числа нынешних пропагандистов в разговоре о перспективах публикации записок В.Бочкарёва спросила: «А он хотя бы воевал?» Меня этот вопрос покоробил и не столько потому, что за время работы над рукописью я душевно породнился с автором.
А потому, что, оценивая нынешнюю уголовно-романтическую творческую продукцию, возвеличивающую узников наших лагерей, вопросами: «А воевали ли они?» мы не задаёмся. Неужели наше сознание уже настолько искажено?
Пётр Цыбулькин
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Работая с архивом Владимира Бочкарёва, я натолкнулся на письмо, адресованное ему ещё в 1946 году некой Андреевой Людмилой, указавшей свой обратный адрес: г.Псков, ул.Крестьянская, д.26 (ниже я привожу полный тест этого письма из прошлого). Судя по всему, Людмила с Владимиром встретились за границей, и некоторое время были там вместе. В письме, кроме адреса, есть упоминание о родственниках Людмилы и людях, находившихся с ней и Владимиром за границей.
Желая продолжить своё исследование, в июле 2005 года я написал во Псков по указанному адресу, высказав просьбу к тем, кто прочтёт моё обращение, по возможности, помочь найти Людмилу и упомянутых ею людей. К письму приложил воспоминания В.Бочкарёва. Однако письмо вернулось обратно с отметкой, что вышеуказанного адреса ни в г.Пскове, ни в г.Порхов Псковской области (спасибо работникам почты, они и там проверили) не существует.
Сейчас, когда воспоминания Владимира опубликованы, я хочу обратиться к читателям – помочь найти следы Людмилы Андреевой и тех, кто её знает. Места в тексте письма, за которые можно «зацепиться» в этом розыске, я подчеркнул.
Моя цель – продолжить исследование и публикации об узниках фашистских концлагерей и о тех, кто был насильно угнан в Германию.
С большим уважением к читателям, Пётр Ив.Цыбулькин.
Привет из Пскова!!!
Здравствуйте, Володя!!
Получила от Вас письмо только что – и отвечаю, хотя с большим опозданием, т.к. я только что приехала во Псков ввиду болезни папы. Я ездила в г.Свердловск на Урал, к матери и сестре, хотела остаться у них совсем, но папа очень болен и я вынуждена остаться жить во Пскове. Снова работаю в прежней организации бухгалтером и одновременно заканчиваю 10-й класс в заочной средней школе. Очень трудно учиться, учебников почти нет, приходится их занимать у учеников др. школ; да и главное – за 5 лет я так много позабыла, что отдельные предметы приходится повторять за, 7,8,9 класс.
Ну вот, в остальном жизнь очень скучная, гулять никуда не хожу, кроме кино. Во Пскове молодёжи совершенно негде отдохнуть, весело провести вечер, не так, как было до войны. Ну что ж, может быть со временем всё наладится, ведь г.Псков пострадал значительно от военных действий.
Володя!! Как Вы живёте, как Ваше здоровье, работаете ли где, пишите, мне интересно всё, где Вы бываете. Мы очень часто после отъезда от Керстена вспоминали о Вас, и очень рады, что Вы теперь дома. Т. Праки (?) уехала в г.Смоленск, к сыну. Живёт хорошо, пишет, но не часто. Тоня Харченко, помните – блондинка, работала с нами вместе у Керстена (их было две Вера-высокая с матерью Соней и Тоня), передаёт тебе искренний привет, живёт во Пскове, работает техническим секретарём в одной организации.
Пишите, Володя, жду Ваших писем.
Вашу просьбу исполню, фотокарточку свою вышлю Вам вероятно в следующем письме. Привет Вашей маме. Мои старики передают Вам сердечный привет и желают здравствовать.
Людмила. 23.IX.46.
P.S. Сейчас посылаю Вам семейную карточку нас всех: папы, т.Тани и моей племянницы. Снимок не совсем удачный, в саду нашего дома, но Вы увидите, что разница с теми, какими мы были в Г., есть всё же.
Папа выглядит на карточке совсем молодцом, … как был, теперь за время болезни очень изменился, постарелю
Людмила.
На конверте мой служебный адрес. Домашний адрес наш такой: г.Псков (обл.), ул.Крестьянская, дом 26, Андреева Людмила Ив.
Можете писать на служебный адрес, тоже письма аккуратно доходят и даже ещё лучше, т.к. дома иногда никого не бывает, и письма задерживаются.
Дополнительная информация:
1. Статья «Магаданский писатель Петр Цыбулькин»: https://www.kolymastory.ru/glavnaya/reportazhi-zemli-kolymskoj/magadanskij-pisatel-petr-tsybulkin/ .